Ненадежный Хайдеггер и воля к смерти: книги недели
Самые интересные книжные новинки — по мнению редакции «Горького»
Дмитрий Кралечкин. Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм. М.: Издательство Института Гайдара, 2020
 Дмитрий Кралечкин известен прежде всего как переводчик Жака Деррида. Именно ему мы, например, обязаны тем, что на русском доступна ключевая книга французского философа «Диссеминация». Но даже этот циклопический (не столько по объему, сколько по вложенным в него идеям) труд — лишь капля в море переводов необычайно плодовитого и плодотворного Кралечкина.
Дмитрий Кралечкин известен прежде всего как переводчик Жака Деррида. Именно ему мы, например, обязаны тем, что на русском доступна ключевая книга французского философа «Диссеминация». Но даже этот циклопический (не столько по объему, сколько по вложенным в него идеям) труд — лишь капля в море переводов необычайно плодовитого и плодотворного Кралечкина.
Значительно реже он выступает с непосредственно авторскими текстами. «Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм» — яркий пример того, что можно условно назвать философствованием переводчика. Обладая знаниями, значительно превосходящими знания среднестатистического потребителя современной философии, Кралечкин свободно переключается между регистрами академической философской мысли и актуальной повестки, производя массированную интеллектуальную атаку на сознание читателя. Язык Кралечкина-философа может показаться избыточным. Многие сочтут эту избыточность недостатком, мы же видим в ней основное достоинство, позволяющее наполнять казалось бы хорошо знакомую философскую систему Хайдеггера неожиданными смыслами, освежая и без того неисчерпаемую систему одного из величайших мыслителей XX века.
В этой книге центральным текстом Хайдеггера оказываются «Черные тетради», в которых, по замечанию Кралечкина, немецкий философ будто нарочно путает жанры личных дневниковых заметок и газетной колонки. Антимодернистский пафос Хайдеггера при внимательном рассмотрении оказывается самым что ни на есть продуктом липкости и навязчивой тягучести модерна, а сам мыслитель на страницах своих рукописей выступает в роли ненадежного рассказчика.
«Поскольку сам Хайдеггер неоднократно предсказывал, что истина его произведений станет ясной лишь в далеком будущем, например через 300 лет, можно подумать, что он заранее жалуется на то, что первые позиции в том или ином ранжировании источников знания (сейчас — сайтов и т. п.) попадает лишь то, что оценивается с позиции успеха, причем само место в ранжировании и равно успеху. Возможно, Хайдеггер уже опасался (как выясняется сейчас, скорее безосновательно), что не попадет „в первые строки поисковой выдачи”. Действительно, в распределении редкого/тайны (аутентично скрытого) и противопоставленного им замаскированного/искаженного (скрытого неаутентично, искусственно и манипуляционно) выявляется не две, а четыре позиции, как только мы введем сам „переход” как элементарную процедуру доступа и маршрутизации. Редкому противопоставлено доступное и массовое, за счет системы маршрутов (например, священные места в Греции становятся туристическими достопримечательностями); в то же время замаскированному и искусственно скрытому (элитарному, закрытому и т. п.) противопоставлена наиболее „бедная” позиция того, что оказывается редким лишь формально, что просто не может рассчитывать на интерес к себе со стороны логики доступности и маршрутизации: забытый сайт, непопулярный Telegram-канал, чудачества и фрик-теории того или иного рода. Разным искусственно закрытым gated communities противостоят не только аутентично-пасторальные формы пребывания в мире (с их собственной противоположностью в виде массового жилья), но и реальное захолустье, „дыры”. Не оказываются ли „Черные тетради” именно в этом положении?»
Сергей Мохов. История смерти. Как мы боремся и принимаем. М.: Individuum, 2020
 Антрополог Сергей Мохов в очередной раз обращается к своей любимой теме, на которой он сделал себе имя главного танатолога современной России. На страницах новой книги исследователь предлагает совершить экскурс в историю нашего отношения к конечности человеческого существования, познакомиться с классическими и актуальными философскими аспектами проблемы смерти, узнать, в конце концов, как возможно оптимистическое отношение к гнетущих многих мысли о том, что все мы рано или поздно умрем. Особое внимание Мохов уделяет общественной и государственной некрополитике в разные эпохи и в разных культурах.
Антрополог Сергей Мохов в очередной раз обращается к своей любимой теме, на которой он сделал себе имя главного танатолога современной России. На страницах новой книги исследователь предлагает совершить экскурс в историю нашего отношения к конечности человеческого существования, познакомиться с классическими и актуальными философскими аспектами проблемы смерти, узнать, в конце концов, как возможно оптимистическое отношение к гнетущих многих мысли о том, что все мы рано или поздно умрем. Особое внимание Мохов уделяет общественной и государственной некрополитике в разные эпохи и в разных культурах.
Главным же нервом книги, на который педалирует автор, является то, что в российском обществе существует явный запрос на публичную дискуссию о смерти. Государство же по тем или иным причинам всячески препятствует выполнению этого запроса, делая некоторые его аспекты попросту невозможными — как говорится, исключенными из дискурса. Надеемся, новая книга Сергея Мохова хотя бы немного, но пошатнет это одновременно эскапистское и деструктивное отношение к столь важной части нашей жизни, каковой является смерть.
В целом, «История смерти» более чем интересна и всячески рекомендуется к прочтению всем, кого занимает неисчерпаемая тема смерти в современных антропологических исследованиях. (Правда, мы бы выбросили из книги главу, посвященную блэк-металу и представляющую собой стандартный набор проверенных временем стереотипов о скандинавской металлической сцене, сообщающий читателю лишь то, что автор крайне поверхностно знаком с материалом этого раздела своего исследования.)
«Критика современного общества, якобы извратившего смерть, — часть более широкого критического дискурса. Его носители, вооружившись инструментарием марксистской и постмарксистской философских мыслей, хотят разоблачить капитализм со всеми сопутствующими атрибутами — догматическими религиями, властными иерархиями, дискриминацией, стигматизацией. Смерть для них — мощный и эмоционально насыщенный инструмент, ярко подсвечивающий механизмы неравенства. В одной из своих статей Кен Дока постулирует, что „энтузиасты смерти” — продукт различных социальных движений за права человека и гуманизацию. Среди них — антимилитаризм, движения за сексуальную свободу и право на тело, феминистическое движение и многие другие. Дока показывает, что идеи всех этих активистов отражены в постулатах „энтузиастов”, а тезис о табуированности темы смерти — скорее удобный предлог для обсуждения грехов современности, чем точное описание реальности.
Повторюсь: движение „энтузиастов смерти” связано с максимально широким пониманием базовых прав человека, главное из которых — самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. В России, где базовые права и свободы граждан регулярно не соблюдаются, транслировать и отстаивать подобный дискурс сложно. О какой эвтаназии или паллиативной помощи можно говорить в стране, где практикуют пытки и покушаются на свободу слова? Как подчеркивает исследователь Олег Хархордин, категория „достоинства” в России традиционно связывается с социальным статусом, а не с врожденным качеством человека, как это принято на Западе. Значит ли это, что смерть россияне тоже осмысляют как-то иначе?»
Лора Лэйн, Эллен Хоун. Золушка и стеклянный потолок: и другие феминистские сказки. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Перевод с английского Александры Капелян
 Несколько лет назад до наших краев добралось обсуждение вопроса о том, нормально ли читать современным детям сказки, прививающие морально устаревшие ценности маскулинности и традиционной семьи с четко распределенными гендерными ролями. Консерваторы, как водится, подняли феминисток на смех, даже не попытавшись разобраться в вопросе, а феминистки активно принялись сочинять собственные версии давно известных сюжетов.
Несколько лет назад до наших краев добралось обсуждение вопроса о том, нормально ли читать современным детям сказки, прививающие морально устаревшие ценности маскулинности и традиционной семьи с четко распределенными гендерными ролями. Консерваторы, как водится, подняли феминисток на смех, даже не попытавшись разобраться в вопросе, а феминистки активно принялись сочинять собственные версии давно известных сюжетов.
Выход в «Альпине» сборника «Золушка и стеклянный потолок» за авторством Лоры Лэйн и Эллен Хоун можно считать своеобразным эхом того шумного диалога, быстро затерявшегося среди сотен себе подобных. Перед нами сборник юмористических миниатюр, переосмысляющих классические сказочные нарративы и от души наполняющих их феминистскими мемами. В итоге романтическая история Русалочки превращается в урок секс-просвета, Белль оказывается жертвой стокгольмского синдрома, а Рапунцель — активисткой бодипозитивного движения.
Мы понятия не имеем, как эта книга приближает воплощение в жизнь идеалов феминизма, это такое совершенно легкое чтение с условной социальной нагрузкой. Но почему бы не быть на свете и таким незатейливым вещицам? Пусть они и проходят по не самому престижному разряду книг для белых привилегированных женщин, для которых борьба женщин за свои права не насущная необходимость, а часть статусного потребления. Впрочем, и рядовым любителям и любительницам эдакого квазилитературного стендапа «Золушка и стеклянный потолок» наверняка принесет немало радости.
«Русалочка закрыла глаза, предвкушая превращение. Она подождала еще немного. И еще. Но ничего не происходило. Тогда она приоткрыла один глаз.
— А долго еще ждать, пока хвост превратится в ноги? — спросила она Морскую Ведьму.
Морская Ведьма терпеливо вздохнула.
— На самом деле нам сначала надо кое-что обсудить.
— Насчет ног? — спросила Русалочка.
— Почти. Мне надо тебе кое-что рассказать. Дело в том, что, кроме ног, у тебя будет еще и вагина.
Русалочка выглядела озадаченной.
— Ваги... что?
— Вагина.
В планы Русалочки не входило ничего, кроме ног. Ей нужны были только они.
— Как-нибудь обойдусь без этого, спасибо, — сказала она, подплывая ближе к Морской Ведьме в надежде ускорить процесс „ножного” заклинания.
— Это неизбежно. Я пробовала. Мочиться через рот — так себе удовольствие.
— Давай уже решим вопрос с ногами. С вагиной как-нибудь сама разберусь, — нетерпеливо сказала Русалочка.
— Послушай, дорогая, с вагиной все не так просто, как кажется. Я не отпущу тебя, пока ты не узнаешь, как ею пользоваться».
Джон Кей. Китай: от Конфуция до Мао Цзэдуна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. Перевод с английского Виктории Степановой
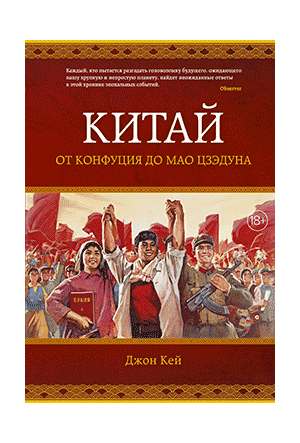 В русскоязычном книжном мире не чувствуется нехватки качественной литературы об истории Китая — синология у нас имеет давние и славные традиции. Но вместе с тем в потоке продукции о Поднебесной бывает сложно найти по-настоящему качественную популярную литературу, которая позволит войти в запутанную историю и культуру этой страны практически с нуля. «Китай» авторитетнейшего английского востоковеда Джона Кея можно назвать эталонной в своем роде книгой.
В русскоязычном книжном мире не чувствуется нехватки качественной литературы об истории Китая — синология у нас имеет давние и славные традиции. Но вместе с тем в потоке продукции о Поднебесной бывает сложно найти по-настоящему качественную популярную литературу, которая позволит войти в запутанную историю и культуру этой страны практически с нуля. «Китай» авторитетнейшего английского востоковеда Джона Кея можно назвать эталонной в своем роде книгой.
На 700 страницах своего труда историк успевает увлекательно рассказать всю историю того, что мы называем китайской цивилизацией: от первобытных племен, населявших нынешнюю территорию Поднебесной, до экономического чуда наших дней.
Кей общается с читателем свободно, но без заискиваний: где надо — ненавязчиво пошутит, где надо — обстоятельно развернет тезис. Но самое главное: автор четко обозначает, что в истории Китая является установленными фактами, что — имеющими право на существование гипотезами, а что — откровенными домыслами и заблуждениями.
Что касается содержательной части, лично нам наиболее интересными показались разделы, посвященные собственной китайской историографии, зависевшей от настроений правящего государя, историческому ревизионизму, а также всегда актуальному и крайне неоднозначному вопросу китайского империализма.
«Русские отказались от претензий на Амур в обмен на торговый доступ к империи Цин; Цин получила безопасную границу и нейтрального соседа. Дальнейшие уточнения, особенно о размерах и частоте русских торговых миссий и согласовании русско-монгольской границы, потребовали составления еще нескольких протоколов, а затем нового соглашения, подписанного в Кяхте в 1727–1728 гг. Кроме того, договорились о строительстве Русской православной церкви и создании Школы русского языка в Пекине. О прагматичном подходе обеих сторон говорит то, что потенциально взрывоопасные вопросы, такие как обязанность простираться и падать ниц перед императором или называть дипломатические подарки данью, ни разу не помешали ведению переговоров. Это резко контрастировало с той раздражительностью и враждебностью, которую эти требования вызывали у держав, стремившихся наладить морскую торговлю с Китаем».
Кирилл Кожурин. Миросозерцание и культура русского старообрядчества XVII–XX вв. СПб.: Евразия, 2020
 И напоследок — еще одна примечательная книга-ликбез. Двухсотстраничный труд Кирилла Кожурина отправляет нас в непростой мир старообрядческой культуры, для многих из нас примерно настолько же доступной, как китайская. Лаконично и доступно Кожурин рассказывает о ключевых этапах становления старообрядческой книжной культуры, знакомит нас с нравоучительной и эсхатологической литературой, помогает хотя бы приблизительно понять то, как ощущали себя в мире люди, для которых патриарх Никон стал воплощением Антихриста.
И напоследок — еще одна примечательная книга-ликбез. Двухсотстраничный труд Кирилла Кожурина отправляет нас в непростой мир старообрядческой культуры, для многих из нас примерно настолько же доступной, как китайская. Лаконично и доступно Кожурин рассказывает о ключевых этапах становления старообрядческой книжной культуры, знакомит нас с нравоучительной и эсхатологической литературой, помогает хотя бы приблизительно понять то, как ощущали себя в мире люди, для которых патриарх Никон стал воплощением Антихриста.
Без ущерба сугубо научной составляющей книги Кожурин создает по-настоящему трогательное повествование о людях, искавших град Китеж, бережно сохранявших старую русскую культуру и в итоге сполна натерпевшихся за свои убеждения и желание сохранить самобытные традиции общины. Особого внимания заслуживают страницы, посвященные знаменитой выговской миниатюре и старообрядческим песнопениям.
«Примерно до середины XIX в. в некоторых старообрядческих согласиях была жива вера в то, что где-то существует истинное священство и сохранилось православное царство — так появились легенды о Беловодье, Опоньском царстве и невидимом граде Китеже. Староверы различных согласий принимали участие в совместных соборах, обсуждавших проблемы поиска архиереев, и даже предпринимали экспедиции на Восток и Балканы. Эти поиски продолжались около 150 лет и не дали никаких результатов».