Не уму, но сердцу: «Ягоды» Романа Михайлова
Эдуард Лукоянов — о сборнике рассказов от автора «Равинагара»
Роман Михайлов. Ягоды. М.: Individuum, 2019
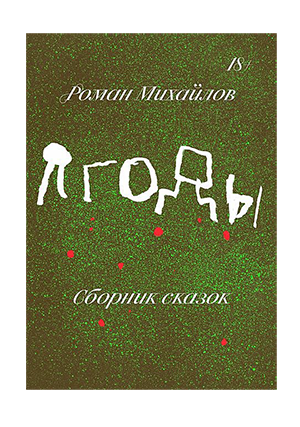 Для нынешней литературной ситуации Роман Михайлов — явление уникальное и даже удивительное. Без помощи крупных издательств, без каких-либо затрат на рекламу, полагаясь лишь на собственный талант и харизму, он всего за несколько лет создал вокруг себя настоящий культ.
Для нынешней литературной ситуации Роман Михайлов — явление уникальное и даже удивительное. Без помощи крупных издательств, без каких-либо затрат на рекламу, полагаясь лишь на собственный талант и харизму, он всего за несколько лет создал вокруг себя настоящий культ.
Подобного в России не было, пожалуй, со времен, когда про Пелевина или Сорокина писали в журналах вроде «Птюч» и «ОМ». Русский писатель в исполнении Романа Михайлова вновь стал рок-звездой, которого можно читать не только потому, что он тебе нравится, но и потому, что знакомство с ним — комильфо, знак принадлежности к «избранным», «не таким, как все». Если бы за книгами Михайлова выстраивалась очередь, то все жаждущие с удовольствием встали бы в эту очередь, ведь среди его поклонников уже замечены даже топовые звезды шоу-бизнеса.
И крайне показательно, что новая книга Михайлова увидела свет в издательстве Individuum, которое специализируется на максимально внятном и доступном, но все же нон-фикшне и до этого момента не собиралось экспериментировать с выпуском художественной прозы, да еще и сборника рассказов.
Когда критики доберутся до Михайлова, они наверняка припомнят ему поддержку Донбасса: разберут по косточкам его политические взгляды, выразят свой решительный протест и тому подобное. Но сейчас лучше поговорить о его прозе, потому что она действительно того заслуживает.
Сборник «Ягоды» состоит из девяти рассказов разной степени оторванности от мира, в котором мы живем. Объединяет их, на наш скромный взгляд, одно — столкновение с жестокостью. Не с банальной жестокостью насилия (хотя и в таком виде она в рассказах Михайлова встречается), а с жестокостью в каком-то абсолютно глубинном, бытийственном значении. Опыт ее переживания становится опытом сокрушительной встречи с главным препятствием, стоящим на непонятном пути странноватых, жалких и бесконечно великодушных персонажей Михайлова.
Неспроста рассказ, которым открывается сборник, называется «Война». Война — крайняя форма насилия, обнажающая границы человеческой жестокости. Но самой войны во вселенной этого текста давно нет, есть только ее пустые знаки. Потому что воевать здесь уже, по сути, некому:
«Ни деревья, ни птицы не подавали признаков жизни. По углам лежали застывшие бездыханные собаки.
— Вы не обращайте внимания, что все мертвое — оно не мертвое, просто усталое. Тут днем такое творится, что даже природа устает, и как только солнце заходит, тут все засыпает. Собаки, и те спят без снов и чувств».
Впрочем, через несколько страниц собаки, как ни в чем не бывало, воскресают, чтобы прийти на дискотеку в сельском клубе.
Следующий рассказ начинается с одновременно смешной и неловкой сцены в духе Сорокина: ударников труда награждают путевкой на аэродром.
«Борис Ильич закончил речь, выслушал аплодисменты, раскланялся.
— Борис Ильич,— Саша подбежал к нему сразу же, как закончилась официальность.
— Да, Саша, как ты себя чувствуешь? Прости, мы давно с тобой не общались. Я зайду сегодня.
— Борис Ильич, зачем нам самолеты смотреть? Что мы там не видели?
— Саша, разве не интересно посмотреть, как работает диспетчер, как он определяет, куда летит самолет, разрешает посадку? А за штурвалом настоящего самолета не интересно посидеть? Поговорить с летчиком? Расспросить его о том, что он видел в небе?»
 Спектакль «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в Театре Наций
Спектакль «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в Театре Наций
Совсем скоро мы понимаем, что только что смеялись над людьми с особенностями психического развития, лежащими в дурдоме, и нам становится совестно за нашу, пусть и ненамеренную, но все-таки жестокость. В последующих текстах из «Ягод» мы еще дальше проникаем в этот мир, где вроде бы и нет злобы, но есть какая-то особенная неприкаянность чудаковатых героев, чьи бессвязные мельтешения по границам бытия не могут не умягчить даже самое темное сердце. Апофеозом этих судорожных перемещений становится заглавный рассказ, будто (на первый взгляд) написанный обезумевшей машиной. Шизофреничная логика этого текста просто не пускает в себя читателя:
«С красными харчами выходит грех равнодушия. Когда-то требовалось сопереживание, а оно не получилось, придется теперь его принять, только уже вместе с бездной. На улице Фрунзе есть архив, в котором хранятся карточки с записями человеческих равнодуший. Садишься чинно на кухне, кладешь перед собой тарелку с макаронами, наклоняешься над ней и заливаешь макароны своей юшкой, идущей из носа. Красные макароны, как в кетчупе. Надо съесть, обязательно. Это твое — телесное, психическое, из архива.
Вопить в воздух можно истерично, а можно глухо. Глухо — страшнее, от глухого вопля проще задохнуться, захлебнуться тихим ревом».
Ни в коем случае не обвиняйте нас в психофобии, но безумие действительно важная составляющая михайловской прозы. Безумие — это не просто взгляд на мир под качественно другим углом, но, возможно, единственно верный способ существования там, где каждая вещь таит в себе ненависть и полное отчуждение, в сумме дающие все ту же жестокость.
Если же говорить о формальной стороне михайловской малой прозы, то самоочевидно ее наследование опытам раннесоветской литературы в ее самых героических проявлениях — в трансгрессивно-языковых опытах Андрея Клементьева, Пильняка, Юрия Олеши. Есть в этой решительно переформатирующей сознание прозе и что-то от лучших вещей Мамлеева с той поправкой, что Михайлов ничуть не упивается пограничными состояниями сознания, а внимательно и нежно, на грани с любовью, их изучает. Таков, например, целиком и полностью рассказ, повествующий о мужчине и женщине в костюмах зайцев:
«Зина захохотала. Она сложила руки по-заячьи, скакнула. Иваныч тоже скакнул. Они представили себя зайцами в поисках еды, через боль в спине наклонясь к земле, сорвали траву.
— Ешь,— строго сказал Иваныч.— Зайцы едят траву.
— Ты первый,— с некоторой неуверенностью ответила Зина.
Иваныч расстегнул костюм, положил траву в рот, разжевал и проглотил. Зина сделала то же самое.
— Теперь мы настоящие.
 Спектакль «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в Театре Наций
Спектакль «Сказка про последнего ангела» по произведениям Романа Михайлова в Театре Наций
Природа раскрыла для них новые виды и даже воздух — видимый, водянистый, слегка дрожащий. Они прошли через этот воздух, покинули привычные мысли и блуждания, оказались среди высоких трав, красивых, полных силы и жизни».
Предыдущие книги Романа Михайлова — «Равинагар», «Изнанка крысы», «Улица Космонавтов» — были интересны прежде всего гипнотическим очарованием сложности. Месседж «Ягод», напротив, предельно ясен. «Ягоды» — это сборник рассказов о том, какие мы все потерянные. И о том, насколько мы на самом деле заслуживаем сострадания, даже если в нем не нуждаемся. Эта нехитрая мысль почему-то все реже звучит в традиционно гуманистической русской литературе.
Но вместе с тем «Ягоды» по-настоящему опасная книга, книга-вирус, поражающая не столько воображение, сколько само сознание. Однако, подобно платоновскому фармакону, она и антивирус, направленный на устранение в читателе косности и бессердечия.
Опасность, конечно, возвращает в литературу остроту ощущений, и всё же дважды подумайте, прежде чем решиться на знакомство с Михайловым. Мы вас честно предупредили.