Не надейтесь избавиться от Модерна
Николай Проценко — о книге Маршалла Бермана «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности»
Маршалл Берман. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности. М.: Горизонталь, 2020. Содержание
Дух и буква «Манифеста Коммунистической партии»
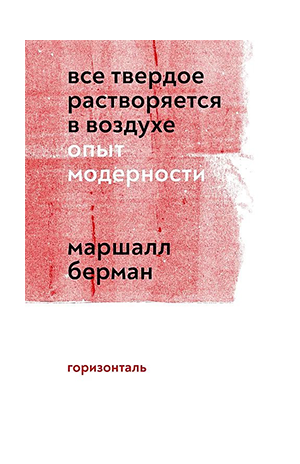 Название книги Бермана — прямая цитата из первой главы «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, которую, впрочем, не получится отыскать в каноническом русском переводе этой работы, еще в 1882 году выполненном Георгием Плехановым. «Все сословное и застойное исчезает» — так «отец русского марксизма» практически слово в слово перевел фразу из «Манифеста», которая в оригинале звучит как аlles Ständische und Stehende verdampft. Однако Берман использовал столь же канонический, но уже для английской традиции перевод Сэмюэля Мура 1888 года, где этот пассаж получил весьма вольную интерпретацию: аll that is solid melts into air.
Название книги Бермана — прямая цитата из первой главы «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, которую, впрочем, не получится отыскать в каноническом русском переводе этой работы, еще в 1882 году выполненном Георгием Плехановым. «Все сословное и застойное исчезает» — так «отец русского марксизма» практически слово в слово перевел фразу из «Манифеста», которая в оригинале звучит как аlles Ständische und Stehende verdampft. Однако Берман использовал столь же канонический, но уже для английской традиции перевод Сэмюэля Мура 1888 года, где этот пассаж получил весьма вольную интерпретацию: аll that is solid melts into air.
Почему Плеханов последовал за буквой «Манифеста», а Мур попытался передать его дух, в целом понятно. Для российского читателя конца XIX века — как и для немецкого несколькими десятилетиями ранее — слово «сословный» (Ständisch) было совершенно определенным маркером, напоминавшим об устройстве современного им общества. Английское общество победившего либерального капитализма в то время, когда Мур переводил «Манифест», уже давно не было сословным, поэтому и перевод получился метафорическим.
Однако упрекать Бермана в том, что он не учел контекст оригинала самой известной работы Маркса и Энгельса, вряд ли стоит. Из этого не совсем точного перевода он извлекает целую концепцию Модерна, а заодно убедительно доказывает, что Маркс, на первый взгляд имеющий с модернизмом мало что общего, как раз и был одной из главных модернистских фигур. Достаточно вспомнить, что рафинированный модернист Бодлер тоже стоял на баррикадах европейской революции 1848 года, прологом к которой стал манифест Маркса и Энгельса.
«Я определяю модернизм как любую попытку современных людей стать субъектами, а вместе с тем и объектами модернизации, понять современный мир и найти свое место в нем» — на первый взгляд определение модернизма, которое дает Берман в самом начале своей книги, кажется тавтологичным. Отчасти понять, почему оно именно такое, помогает контекст, в котором создавалась книга — сборник эссе 1977–1981 годов.
Прежде всего, книга Бермана — это рефлексия о «всемирной революции» 1968 года, к которой он имел непосредственное отношение как участник протестов против войны во Вьетнаме (и в том же году он защитил докторскую диссертацию в Гарварде). Движение 1968 года во многом было антимодернистским — по крайней мере, в США, где одним из предвосхитивших городские бунты манифестом стала знаменитая книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов», где изображались плачевные последствия вторжения «высокого» послевоенного модернизма в органически сложившуюся урбанистическую ткань.
Собственно, урбанистика — в ее подлинном смысле — и становится отправной точкой рассуждений Бермана о Модерне и модернизме. В последней главе книги в деталях описано, как его родной Бронкс в 1950–1960-х годах из идиллического «города-сада» превратился в печально известное нью-йоркское гетто благодаря мегаломанским инфраструктурным начинаниям Роберта Мозеса — фигуры, которая на протяжении десятилетий была воплощением практики «высокого» модернизма. А в самом начале книги Берман описывает свои впечатления от еще одного знакового произведения этого же международного стиля — новой бразильской столицы Бразилиа, созданной на пустом месте архитектором Оскаром Нимейером, человеком левых убеждений. Но последнее обстоятельство, по мнению Бермана, никак не транслировалось в качество построенного им города:
«Планировка Бразилиа идеально подошла бы столице военной диктатуры во власти генералов, стремящихся держать народ на расстоянии, разделять и подавлять. Однако для столицы демократии это позор» — собственно, после прихода к власти в Бразилии военной хунты Нимейер надолго уехал из страны.
Казалось бы, при столь критическом отношении к современной ему версии модернизма Берману была прямая дорога в постмодернисты, которые уже основательно заявили о себе к моменту выхода его книги (программная работа Чарльза Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» была опубликована в 1977 году). Однако Берман движется в неожиданном направлении — назад к Модерну, утверждая на примере работ того же Мозеса, что антимодернистской революции 1968 года предшествовал радикальный разрыв между модернизмом как большим стилем и модернизацией как процессом, суть которого, по мнению автора книги, лучше всех уловил именно Маркс: все твердое растворяется в воздухе. И наступление постмодернизма как реакции на эти перемены, продолжает Берман, отнюдь не означает, что процесс модернизации сам по себе исчерпан.
 «Созданная постмодернистами парадигма полностью противоречит той, что изложена в этой книге, — заявляет Берман. — Я утверждаю, что модерная жизнь и искусство способны к безграничной самокритике и самообновлению. Постмодернисты стоят на том, что горизонт модерности схлопнулся, она исчерпала свою энергию — словом, что модерность ушла в прошлое. Социальная мысль постмодернистов высмеивает любые коллективные надежды на моральный и социальный прогресс, на свободу личности и общественное счастье, унаследованные нами от модернистов эпохи Просвещения. Постмодернисты считают, что эти надежды оказались полностью несостоятельны... Лучшее, что я могу сделать сейчас, — это заново утвердить общее представление о модерности, развитое мной в настоящей книге. Читатели сами могут спросить себя, так ли сильно отличается от нашего реконструированный мною мир Гете, Маркса, Бодлера, Достоевского и прочих. Правда ли мы уже переросли дилеммы, возникающие, когда „все твердое растворяется в воздухе”, или мечты о жизни, в которой „свободное развитие каждого является условием свободного развития всех”? Я так не думаю».
«Созданная постмодернистами парадигма полностью противоречит той, что изложена в этой книге, — заявляет Берман. — Я утверждаю, что модерная жизнь и искусство способны к безграничной самокритике и самообновлению. Постмодернисты стоят на том, что горизонт модерности схлопнулся, она исчерпала свою энергию — словом, что модерность ушла в прошлое. Социальная мысль постмодернистов высмеивает любые коллективные надежды на моральный и социальный прогресс, на свободу личности и общественное счастье, унаследованные нами от модернистов эпохи Просвещения. Постмодернисты считают, что эти надежды оказались полностью несостоятельны... Лучшее, что я могу сделать сейчас, — это заново утвердить общее представление о модерности, развитое мной в настоящей книге. Читатели сами могут спросить себя, так ли сильно отличается от нашего реконструированный мною мир Гете, Маркса, Бодлера, Достоевского и прочих. Правда ли мы уже переросли дилеммы, возникающие, когда „все твердое растворяется в воздухе”, или мечты о жизни, в которой „свободное развитие каждого является условием свободного развития всех”? Я так не думаю».
Итак, Берман изначально задает своей книге программный характер манифеста, и это само по себе определяет его движение назад к Марксу — соавтору одного из первых текстов в этом типично модернистском жанре. И здесь, конечно же, стоит наконец привести более полную цитату из «Манифеста Коммунистической партии», которая, по мысли Бермана, и выражает суть Модерна как целой жизненной парадигмы и модернизации как ее развертки во времени:
«Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все твердое растворяется в воздухе [все сословное и застойное исчезает], все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения».
Процесс без гарантий результата
Между тем из того понимания Модерна, которое предлагает Берман, не следует, что это понятие равнозначно Просвещению (хотя такой ход мысли напрашивается, если руководствоваться тем определением Просвещения, которое дал еще Кант, — выход человека из состояния своего несовершеннолетия).
Уже первое, по мнению Бермана, крупное модернистское произведение, тоже своего рода манифест — «Фауст» Гете, начатый еще при здравствующем старом порядке во Франции, а законченный уже на пороге торжества центристского либерализма, как сказал бы Валлерстайн, — демонстрирует, что это совершеннолетие отнюдь не идет человеку исключительно на пользу. В одной из финальных сцен трагедии, где ради завершения проекта обустройства пустынного побережья Фаусту приходится стать невольным соучастником убийства двух живущих там стариков, Филемона и Бавкиды, за полтора столетия до Роберта Мозеса угадываются все знакомые черты «гипермодернизма». Определяя шедевр Гете как трагедию развития, Берман показывает, что ее сюжет можно увидеть в любом большом модернизационном проекте, который неизбежно провоцирует самые разные конфликты и зачастую приводит к результатам, прямо противоположным заявленным целям:
«Гете видит в модернизации материального мира величайшее духовное достижение; Фауст Гете в своей роли строителя, направляющего мир на новый путь, — архетипический модерный герой. Но строитель в воплощении Гете столь же трагичен, сколь героичен... Убийство Филемона и Бавкиды оказывается иронической кульминацией жизни Фауста. Погубив этих стариков, он огласил себе смертный приговор. После уничтожения стариков и старого мира у него больше не остается дел. Фауст готов произнести слова, возвещающие, что он пожил сполна и готов к смерти: Verweile doch, du bist so schön! [Остановись, мгновенье, — ты прекрасно!] Почему Фауст погибает именно теперь? Причины, по которым Гете выбирает этот миг, связаны не только со структурой второй части „Фауста”, но со структурой модерной истории в целом. Есть ирония в том, что, покончив с домодерным миром, строитель покончил с причиной своего существования. В полностью модерном обществе трагедия модернизации естественным образом завершается — а ее трагический герой гибнет».
 В таком же ключе Берман рассматривает и коммунистические идеи Карла Маркса. С одной стороны, утверждает он, то понимание коммунизма, которое Маркс дает в первом томе «Капитала», — замена капиталистического рабочего «всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции суть сменяющие друг друга способы жизнедеятельности», — безупречно модерно в смысле полного соответствия модернистскому идеалу постоянного развития. С другой стороны, подчеркивает Берман, те силы, которые способны растворить в воздухе капитализм, могут проделать то же самое и с чаемым коммунизмом:
В таком же ключе Берман рассматривает и коммунистические идеи Карла Маркса. С одной стороны, утверждает он, то понимание коммунизма, которое Маркс дает в первом томе «Капитала», — замена капиталистического рабочего «всесторонне развитым индивидуумом, для которого различные общественные функции суть сменяющие друг друга способы жизнедеятельности», — безупречно модерно в смысле полного соответствия модернистскому идеалу постоянного развития. С другой стороны, подчеркивает Берман, те силы, которые способны растворить в воздухе капитализм, могут проделать то же самое и с чаемым коммунизмом:
«Легко представить, как общество, приверженное свободному развитию всех и каждого, развивает собственную особую разновидность нигилизма. Ведь коммунистический нигилизм может оказаться куда более взрывоопасным и дезинтегрирующим, нежели его буржуазный предшественник — хотя и более дерзким и оригинальным, — так как если капитализм ограничивает бесконечные возможности модерной жизни ведением расходов и доходов, Марксов коммунизм может запустить освобожденную личность в огромный и неизведанный космос без каких-либо ограничений».
Столь скептическое отношение к коммунизму со стороны Бермана, который в философской табели о рангах вообще-то обычно проходит под лейблом марксиста, несомненно, связано с осмыслением советского и в целом российского опыта, которое для того времени было совершенно неортодоксальным.
Луч надежды с модернистской периферии
Книга Бермана была написана в те годы, когда магистральная версия доктрины модернизации делила планету на три «мира»: первый (развитые капиталистические страны во главе с США), второй (социалистические страны во главе с СССР, которым удалось сформировать собственную модернизационную траекторию) и третий — все остальные, которые должны сделать выбор между одним из двух вариантов модернизации. В начале 1970-х годов появилась альтернативная теория модернизации — мир-системный анализ Иммануила Валлерстайна, в котором вводилась другая структура: центр (ядро) — полупериферия — периферия, в которой СССР оказывался где-то на пути от полупериферии к ядру.
Берман же в главе «Петербург: модернизм отсталости» предлагает совершенно иной вариант, гораздо более близкий к той концепции The West and the Rest (Запад и все остальные), которая станет доминировать после распада СССР, — но в момент написания книги Бермана такой вариант развития событий рассматривался разве что в очень далекой перспективе. Догоняющий модернизационный опыт России и СССР для него однозначно является периферийным, хотя и не в валлерстайновском смысле непреодолимой зависимости от мировых центров накопления капитала — с этой точки зрения Бермана вообще сложно назвать марксистом.
Скорее на чаши весов ложатся декларируемые цели этого типа модернизации и достигнутые результаты — от строительства Петербурга до «большого скачка» сталинских пятилеток, — которые, как полагает Берман, совершенно не оправдывали принесенных ради них жертв. Не оказывается ли в этом же списке (если ограничиваться только урбанистикой) пресловутая московская «реновация», не имеющая практически ничего общего с тем, что этим термином обозначается в Европе? Слишком уж российские «проекты развития» последних лет — кстати, практически ничего не дающие для роста экономики страны — напоминают мегаломанию Мозеса, с той лишь разницей, что наступать на те же грабли приходится чуть ли не столетие спустя.
«Одна из ключевых особенностей модерной истории России заключается в том, что экономика Российской империи стагнировала, а в некоторых областях даже переживала регресс в тот самый период, когда экономики западных государств разогнались и впечатляюще рванули вперед. Поэтому до резкого индустриального подъема 1890-х годов русские в XIX веке в основном переживали модернизацию как что-то, не происходящее с ними; или даже как что-то, происходящее очень далеко, в пространствах, которые они, даже если и наблюдали во время путешествий, воспринимали скорее как фантастические антимиры, чем как социальную реальность; или даже, если модернизация все же происходила с ними, то только как что-то ущербное, шаткое, очевидно тупиковое или невообразимо извращенное. Тоска из-за запоздалого развития и отсталости играла центральную роль в российской политике и культуре с 1820-х годов и вплоть до советского периода. За эти почти сто лет Россия столкнулась со всеми проблемами, которые позднее пришлось и еще придется решать африканским, азиатским и латиноамериканским государствам. Поэтому мы можем рассмотреть Россию XIX века как архетип развивающегося Третьего мира в XX веке», — утверждает Берман, походя лишая тогдашнюю Россию статуса лидера «второго» мира. Правда, здесь ход его мысли вполне марксистский: точно так же как Маркс в предисловии к «Капиталу» утверждал, что каждая более развитая промышленная страна показывает другим путь примером собственного развития, Берман выводит такую же закономерность развития по другой траектории — модернизма отсталости.
Берман не упоминает в книге знаменитую статью Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции», однако, рассматривая русскую модернизацию сквозь призму русской литературы — точнее, главным образом ее «петербургского текста», — он идет практически тем же путем. Поиск ключевых модернистских коллизий (прежде всего, между человеком и модерным государством) в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белого, Мандельштама и других писателей приводит Бермана к ряду выводов, которые открывают совершенно новые перспективы социологического анализа художественных текстов. Для западного литературоведения того времени это был принципиально новый подход, во многом предвосхитивший многие современные концепции — скажем, Паскаль Казановы, которая описывает парадоксальные прорывы авторов из стран периферии в «золотой фонд» всемирной литературы.
Собственно, в этом и заключается суть представления Бермана о русской культуре: по его мнению, одна из примечательных черт российского века отсталости состоит именно в том, что всего лишь за два поколения там родилась одна из величайших мировых литератур. И уже это обстоятельство снимает с Бермана любые подозрения в том, что он относится к России с ожидаемым чувством превосходства западного человека: напротив, лучшие страницы его книги говорят о том, что автор принимал трагедии российской истории столь же близко к сердцу, как и то, что произошло с его Бронксом. В заключительной части главы о России он приводит слова из последней речи на суде ленинградского рабочего Владимира Дремлюги, одного из тех нескольких человек, которые в 1968 году тоже внесли свою лепту во «всемирную революцию», выйдя на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию: «Всю свою сознательную жизнь я хотел быть гражданином, человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Десять минут я был гражданином».
Эта реплика, которая для Бермана становится далеким отголоском пушкинского «Медного всадника», замыкает его анализ «петербургского текста»: «Это настоящая нотка петербургского модернизма, всегда самоироничного, но ясного и мощного, когда это необходимо. Это одинокий, но настойчивый голос маленького человека на необъятной площади: „Ужо тебе!”» И в этом же ряду для Бермана оказываются и другие массы безымянных людей, отдающих свои жизни в борьбе за Модерн в ситуации, когда он, кажется, полностью исчерпал свой исходный импульс. Польская «Солидарность» и филиппинская «Народная власть», утверждает автор книги, — такие же потрясающие достижения модернизма, как «Бесплодная земля» Томаса Стернза Элиота или «Герника» Пикассо. Утверждение, пожалуй, метафорическое, но результат налицо: «Солидарность» сыграла решающую роль в падении авторитарных режимов в соцлагере, а «Народная власть» — в падение филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса в 1986 году.
Все это, конечно, не позволяет причислить Бермана к идеологическим предтечам доктрины «Запад и все остальные» — более того, его книга становится слишком актуальной сегодня, когда события в Белоруссии напоминают о том, что народ рано списывать со счетов как коллективный исторический субъект. Кроме того, белорусская революция и по своей природе выглядит совершенно модернистской: против Лукашенко, за четверть века правления так и не избавившегося от колхозной архаики, вышли горожане — главные, по Берману, вершители модернизации. Белоруссия (а вслед за ней, вероятно, и Россия) стоит на пороге большой исторической развилки со всеми неизбежными, но, пожалуй, уже понятными и привычными рисками Модерна — и это само по себе свидетельствует о том, что эта парадигма далеко не исчерпана. Модерн, как примерно в те же годы утверждал немецкий философ Юрген Хабермас, по-прежнему незавершенный проект. Собственно, в этом и заключается весь модернистский пафос книги Бермана:
«Еще рано переворачивать страницу книги „больших нарративов”, в которых человечество выступает „героем-освободителем”: новые субъекты и новые деяния появляются каждый день... В книге „Все твердое растворяется в воздухе” я попытался обрисовать перспективу, в рамках которой всевозможные культурные и политические движения оказались бы частью одного процесса: то, как модерные люди защищают свою честь в настоящем — даже в скверном и жестоком настоящем — и право контролировать свое будущее; стараются создавать в современном мире места, где они могли бы чувствовать себя свободно. С этой точки зрения борьба за демократию, которая разворачивается во всем современном мире, имеет центральное значение для смысла и силы модернизма».