Не фактами едиными
О книге Ренате Лахманн «Лагерь и литература»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ренате Лахманн. Лагерь и литература. Свидетельства о ГУЛАГе. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с немецкого Н. Ставрогиной. Содержание. Фрагмент
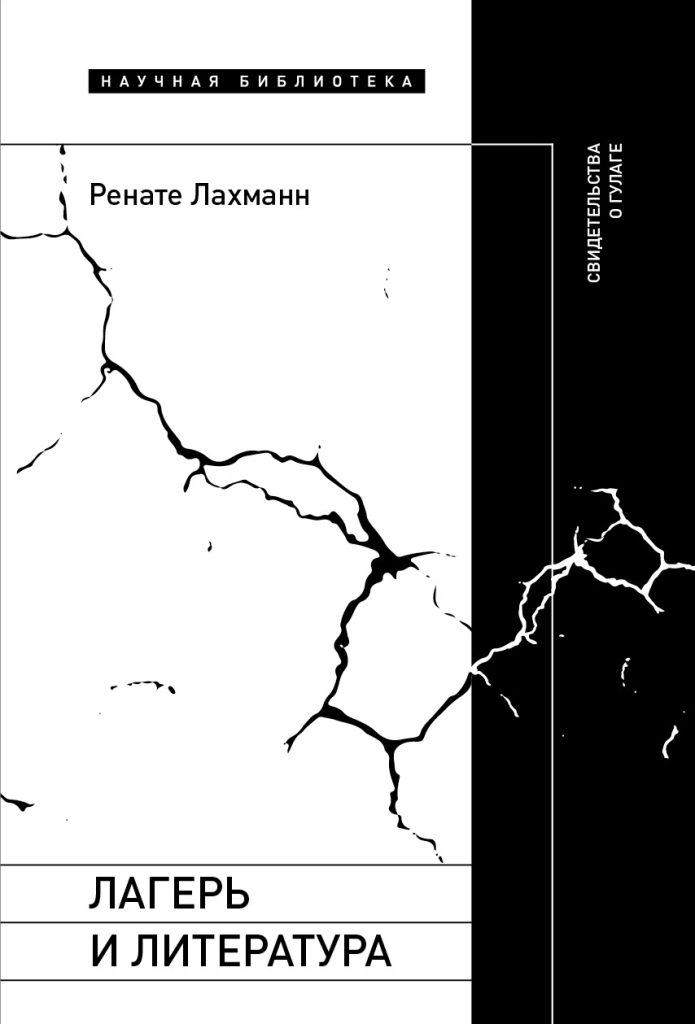 Тексты, созданные бывшими узниками советских и нацистских лагерей, принято относить к разряду «свидетельской литературы». Слово «свидетельская» предполагает, что основная цель их авторов — рассказать правду о произошедшем, ничего не искажая, не замалчивая и не добавляя от себя, словно они выступают перед судом. Но как быть со второй частью термина — словом «литература»? Литературное письмо предполагает использование поэтического языка и риторических приемов. Следовательно, даже в полностью документальном произведении (например, основанном на архивных материалах романе) будет присутствовать фикциональный элемент, нарушающий сам принцип свидетельствования.
Тексты, созданные бывшими узниками советских и нацистских лагерей, принято относить к разряду «свидетельской литературы». Слово «свидетельская» предполагает, что основная цель их авторов — рассказать правду о произошедшем, ничего не искажая, не замалчивая и не добавляя от себя, словно они выступают перед судом. Но как быть со второй частью термина — словом «литература»? Литературное письмо предполагает использование поэтического языка и риторических приемов. Следовательно, даже в полностью документальном произведении (например, основанном на архивных материалах романе) будет присутствовать фикциональный элемент, нарушающий сам принцип свидетельствования.
Опасение, что литературная обработка может привести к искажению фактов о лагерях, озвучивалось многими бывшими узниками, решившими описать свой опыт. Однако, как убедительно продемонстрировал Хейден Уайт, даже такой противник риторических излишеств как Примо Леви использовал в своих произведениях о лагерях многочисленные фигуры и тропы. Аналогичным образом Варлам Шаламов, провозгласивший отказ от всякой «литературности», развернул в «Колымских рассказах» сложную интертекстуальную игру, которую долгое время не замечали даже специалисты.
В книге «Лагерь и литература», рассматривающей большой корпус свидетельских текстов о ГУЛАГе, славистка и историк культуры Ренате Лахманн ставит под сомнение противопоставление документальности и художественности. Даже если автор собирается рассказать о своем опыте в максимально «фактологической» манере, ему все равно предстоит совершить эстетическую по своей сути операцию «претворения свидетельского замысла в повествовательный текст», пишет Лахманн. Слово «эстетизация» часто используется в значении «приукрашивание», но в этом случае речь идет об организации материала и придании ему формы в соответствии с эстетическими критериями: выборе повествовательной перспективы, тона, композиции и так далее.
В этом отношении показателен пример Карло Штайнера, автора книги воспоминаний «7000 дней в ГУЛАГе» (1972). Австрийский коммунист и член югославской Коммунистической партии, Штайнер провел в советских лагерях и ссылке двадцать лет и был освобожден в 1956 году благодаря усилиям Тито. Он решил составить максимально подробный и достоверный отчет об увиденном, чтобы донести до западной аудитории всю правду о советской карательной системе. Как отмечал сам Штайнер, он воздерживался от оценочных суждений и эмоциональных комментариев, чтобы дать читателю возможность самому «вершить свой суд». Обращаясь к судебной риторике, автор подталкивает читателей к тому, чтобы воспринимать «7000 дней в ГУЛАГе» как документальное свидетельство. Однако даже в тексте Штайнера можно обнаружить явно литературные приемы: он нагнетает напряжение в преддверии важного события (казни заключенного генерала) и использует сюжетную структуру «завязка — кульминация — развязка» при описании принудительных работ на лесоповале.
«Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся... как бы все то, что я пережил, не показалось невероятным и тенденциозным», — писал Штайнер. Многие бывшие узники отмечали, что реальность лагеря выходит за рамки разумного и едва ли может быть постигнута людьми, которым посчастливилось избежать столкновения с машиной уничтожения. Утверждение о невыразимости лагерного опыта стало общим местом как в «свидетельской литературе», так и в посвященных ей исследованиях. Тем не менее выжившие испытывали потребность рассказать об увиденном и испытанном — если не ради себя, то по крайней мере ради тех, кто сгинул в заключении. Перед ними стояла невыполнимая задача — попытаться выразить то, что не подлежит выражению.
Чтобы «перекинуть мост между посвященными и непосвященными», авторам текстов о лагере необходимо было облечь свой опыт в знакомые читателям литературные формы, указывает Лахманн. Такое утверждение может показаться странным, ведь все тот же Шаламов, напротив, говорил о неадекватности прежних литературных форм историческому опыту человека XX века. Однако Лахманн обращает внимание на то, что лагерные авторы активно использовали существующие жанровые модели (от готического романа до волшебной сказки), приемы и тропы. Например, исследовательница обнаруживает в их произведениях прямые и косвенные отсылки к дантовскому аду:
«Слово „ад“ предстает заведомо безуспешной попыткой именования, вербальной неспособностью назвать суть произошедшего. Не только голод, изнеможение, замерзание, побои, унижения, грязь, смерть других людей, расстрелы, но и то, что составляет саму эту суть (ад означает Иной мир): потустороннее (внутри посюстороннего), чудовищное и бесконечно чуждое. Однако „ад“ — это не только метафора... но и метонимия, то есть она включает лагерные тексты в литературную традицию. „Ад“ из „Божественной комедии“ с его воронкообразно уводящими вглубь девятью кругами становится интертекстом, который связывает претворенный в текст лагерный опыт с литературной традицией».
Показательно, что Лахманн говорит о «заведомо безуспешной попытке именования» — какие бы метафоры ни избрал автор для описания пережитого, всегда остается неустранимый зазор между опытом и языком. Одни прямо говорят об этом этот зазоре — как Солженицын, замечающий в «Архипелаге ГУЛАГ», что «главного об этих лагерях уже никто не расскажет». Другие же косвенно указывают на него художественными приемами — как Шаламов, отказывающийся от психологического анализа и максимально сдержанно, почти отстраненно, описывающий эпизоды насилия.
Лахманн внимательно анализирует формальные особенности лагерных текстов, но ее книга не ограничивается лишь литературоведческими вопросами. Исследовательница подробно рассказывает об устройстве лагерей, быте заключенных и советской репрессивной системе в целом, начиная с основания Соловецкого лагеря и заканчивая судебными преследованиями литераторов-нонконформистов (Ефима Эткинда, Иосифа Бродского и других) в брежневское время. Делает она это с опорой на художественные тексты: описывая аресты времен Большого террора, ссылается на повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна» (1939—1940), а примеры того, как фабриковали дела советские следователи, берет из романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма» (1940).
Лахманн отдает себе отчет в том, что литературные произведения нельзя читать так же, как архивные документы, и все утверждения подкрепляет ссылками на дополнительные источники или исследования специалистов. Однако ей важно показать, что с самого начала репрессий именно литература стала одним из основных способов осмысления происходящего. Чуковская изобразила «правоверную» коммунистку, пораженную известием об аресте сына и ищущую объяснение происходящему. Кёстлер, хорошо осведомленный о ходе показательных процессов, реконструировал поведение высокопоставленного партийного чиновника (прототипом ему послужил Бухарин), в ходе допроса согласившегося на самооговор ради дела революции. Работая на художественном материале, оба автора ставили перед собой вопросы о природе террора и реакции общества на него — вопросы, ответы на которые до сих пор ищут специалисты по советской истории.
Вышедшая в 1940 году книга Кёстлера подверглась нападкам левых интеллектуалов (в первую очередь во Франции), увидевших в ней попытку очернить коммунистический проект. С таким же скепсисом на Западе первоначально были встречены и другие свидетельства о лагерях. Когда в 1949-м Давид Руссе написал для «Фигаро» статью, в которой наряду с немецкими лагерями упоминались и советские, левая французская газета «Летр франсез» назвала его «троцкистским фальсфикатором». В ответ Руссо подал на издание в суд и победил. Важную роль в разбирательстве сыграли показания бывшего заключенного ГУЛАГа и автора книги воспоминаний «Путешествие в страну зэ-ка» Юрия Марголина, в буквальном смысле выступившего в роли свидетеля. Когда в 1970-е годы на Западе наконец развернулась широкая дискуссия о советских лагерях, это произошло благодаря публикации «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, «соединившего изображение собственной лагерной жизни с рассказами других жертв об их личном опыте и сведениями из секретных документов».
В СССР аналогичная, хотя и гораздо более ограниченная и осторожная дискуссия была запущена в 1962 году публикацией в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича». Несмотря на то что произведение позиционировалось как художественное, аудитория восприняла его именно как свидетельство — в редакцию журнала хлынул поток текстов, написанных бывшими заключенными (внутренние рецензии на них, к слову, доверили писать Шаламову). Как доказывает Лахманн, такое восприятие солженицынского текста стало возможным благодаря созданному автором эффекту «аутентичности». На него работала стилизация под автобиографический нарратив и использование сказовой (то есть подражающей бытовой или «простонародной» речи) техники, позволившей показать лагерную повседневность глазами «наивного, однако чрезвычайно внимательного и находчивого героя».
Повесть Солженицына и история ее рецепции хорошо иллюстрируют основную мысль исследования: текст может одновременно существовать в качестве свидетельства и художественного произведения, а его литературные достоинства могут способствовать распространению информации о лагерях. Вместо того чтобы противопоставлять форму содержанию, Лахманн предлагает смотреть на их взаимодействие. «Конечно, голые факты красноречивы, — замечает она в одной из глав, — но их еще нужно высказать».