Наш папа — майонез: книги недели
Что спрашивать в книжных
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сергей Чупринин. Введение в современное литературное пространство. Курс лекций. М.: Литературный институт имени А. М. Горького, 2023. Содержание
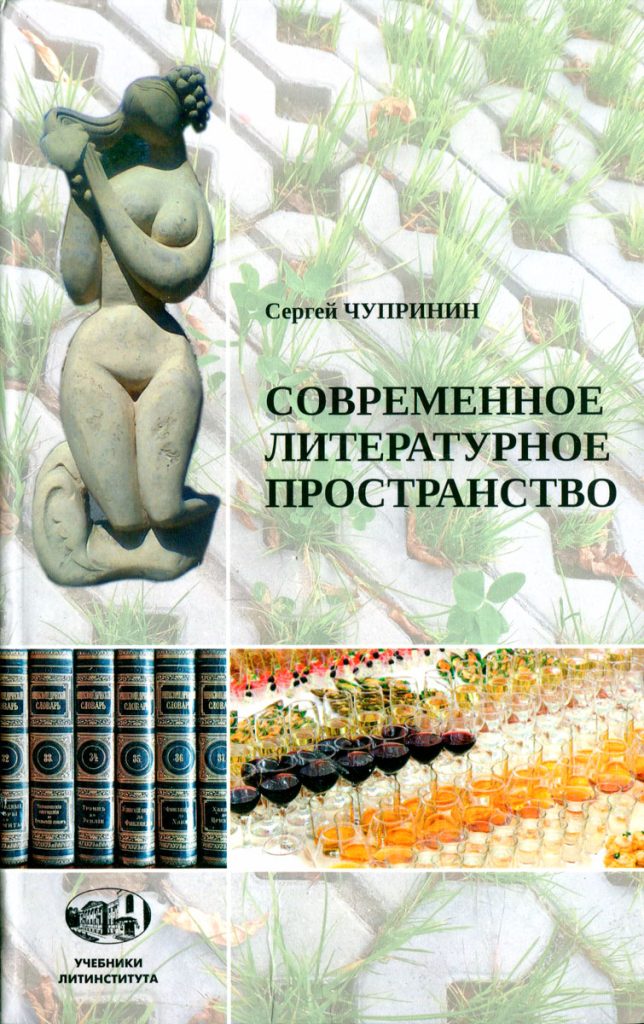 В рамках этого нашего традиционного обзора нередко, и скорее даже часто, рассказывается о специальных изданиях, но новая книга Сергея Чупринина, за творчеством которого мы продолжаем пристально следить, к таковым не относится. Даже наоборот: это текстовая версия курса лекций, прочитанных студентам Литинститута, которые нередко и к концу обучения не очень хорошо себе представляют, как устроено вынесенное в название «современное литературное пространство». Как правило, не лучше обстоит дело и у более широкой публики, сохранившей к отечественной словесности некоторый интерес — впрочем, изрядно подтаявший за последние годы, и не без причины: Сергей Иванович, склонный к объективности и умеренности, с высоты своего опыта смотрит на текущее положение, возможно, чересчур оптимистично и видит потенциал там, где его уже почти не осталось, ну да это вопрос дискуссионный. Несомненно же то, что предложенный Чуприниным анализ как всегда серьезен и полезен, он помогает составить общее представление о гетерогенности нынешнего литературного поля в рамках прогрессирующего крушения всех его институтов — премий, журналов, критики, оплаты авторского труда и т. д. и т. п. В такой ситуации взвешенный взгляд бывалого человека ценен особенно, в отличие от взгляда тех, кто хочет, чтобы все было по-старому или чтобы все было по-новому.
В рамках этого нашего традиционного обзора нередко, и скорее даже часто, рассказывается о специальных изданиях, но новая книга Сергея Чупринина, за творчеством которого мы продолжаем пристально следить, к таковым не относится. Даже наоборот: это текстовая версия курса лекций, прочитанных студентам Литинститута, которые нередко и к концу обучения не очень хорошо себе представляют, как устроено вынесенное в название «современное литературное пространство». Как правило, не лучше обстоит дело и у более широкой публики, сохранившей к отечественной словесности некоторый интерес — впрочем, изрядно подтаявший за последние годы, и не без причины: Сергей Иванович, склонный к объективности и умеренности, с высоты своего опыта смотрит на текущее положение, возможно, чересчур оптимистично и видит потенциал там, где его уже почти не осталось, ну да это вопрос дискуссионный. Несомненно же то, что предложенный Чуприниным анализ как всегда серьезен и полезен, он помогает составить общее представление о гетерогенности нынешнего литературного поля в рамках прогрессирующего крушения всех его институтов — премий, журналов, критики, оплаты авторского труда и т. д. и т. п. В такой ситуации взвешенный взгляд бывалого человека ценен особенно, в отличие от взгляда тех, кто хочет, чтобы все было по-старому или чтобы все было по-новому.
«Попробуем суммировать: вне всякого отношения к тому, что каждый из нас об этом думает, литература устроена состязательно, иерархично и, как бы сейчас сказали, на конкурсной основе. И речь здесь идет не об игре честолюбий или ярмарке тщеславия, а о предметах гораздо более важных, корневых. О праве той или иной книги, того или иного автора на читательское внимание. О праве на место в литературе».
Уолтер Липпман. Общественное мнение. М.: АСТ, 2023. Перевод с английского Е. Абаевой. Содержание
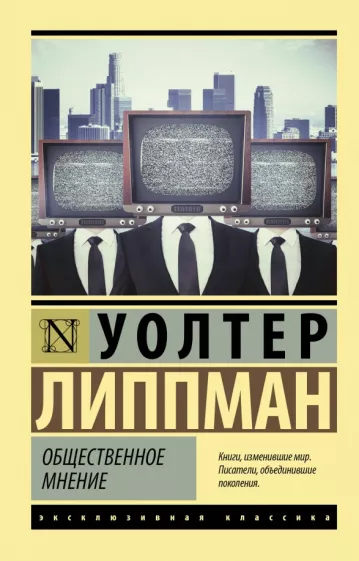 Впервые книга Уолтера Липпмана «Общественное мнение» вышла по-русски в 2004 году в издательстве Института «Фонд общественное мнение», связанном с одноименным опросным агентством. Великий социолог Григорий Батыгин, входивший в состав редколлегии, не хотел издавать эту книгу, полагая ее слишком журналистской, похожей на манифест, а не на академическое рассуждение, однако на публикации настоял директор ФОМа Александр Ослон. Почему — вопрос открытый, однако некоторые представления о причинах можно составить исходя из содержания труда.
Впервые книга Уолтера Липпмана «Общественное мнение» вышла по-русски в 2004 году в издательстве Института «Фонд общественное мнение», связанном с одноименным опросным агентством. Великий социолог Григорий Батыгин, входивший в состав редколлегии, не хотел издавать эту книгу, полагая ее слишком журналистской, похожей на манифест, а не на академическое рассуждение, однако на публикации настоял директор ФОМа Александр Ослон. Почему — вопрос открытый, однако некоторые представления о причинах можно составить исходя из содержания труда.
Вопреки названию, мистер Липпман интересовался не столько общественным мнением, сколько тем, как не допустить повторения Первой мировой, вскоре после которой книга была написана. Политический обозреватель, впоследствии популяризировавший термин «холодная война», был активным участником властных кругов — так, например, он участвовал в написании «Четырнадцати пунктов мирной программы» Вудро Вильсона, которые легли в основу положений Версальского договора.
Демократия себя не оправдала, говорит Липпман, поскольку люди получают представление о мире не на основе личного опыта, а на основании образов, поставляемых СМИ (тезис 1921 года, когда даже радио не успело глобализироваться, звучит несколько резче в эпоху социальных сетей). На основе заведомо искаженных и противоречивых представлений формируются стереотипы (в массовой оборот этот термин ввел Липпман), из которых в конечном счете и собирается социальная реальность. Из этого Липпман делал вывод о том, что политические решения следует принимать на основе анализа экспертов (по существу, социологов) и доносить до граждан с помощью, говоря по-современному, «доброй пропаганды».
На дворе снова война и глобальное помутнение, так что актуальности липпмановским рассуждениям не занимать. Перевод Т. Барчуновой, выпущенный ФОМ, был не полон, издательство «АСТ» взяло на себя труд сделать новый, и он, кажется, неплох.
«Люди сильно различаются по своей восприимчивости к идеям и образам. Некоторые представляют себе голодающего ребенка в России так же ярко, как и голодающего ребенка, которого сами видят. Есть и такие, кого почти не затрагивает образ, если он не воспринимается непосредственно. А между этими полюсами множество градаций. Есть люди, которых не впечатляют факты, их пробуждают только идеи и образы. Но, хотя эмоция вызывается идеей, мы не можем ее удовлетворить, вовлекаясь в происходящее. Мысль о голодающем русском ребенке вызывает желание его накормить. Однако человек, у которого появилось такое желание, не в состоянии этого сделать. Он может перечислить деньги какой-то организации или лично агенту, которого он называет „мистер Гувер“. Но до конкретного ребенка эти деньги не доходят. Они идут в общий котел, откуда кормят кучу детей».
Мириам Хансен. Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Перевод с английского Нины Цыркун. Содержание
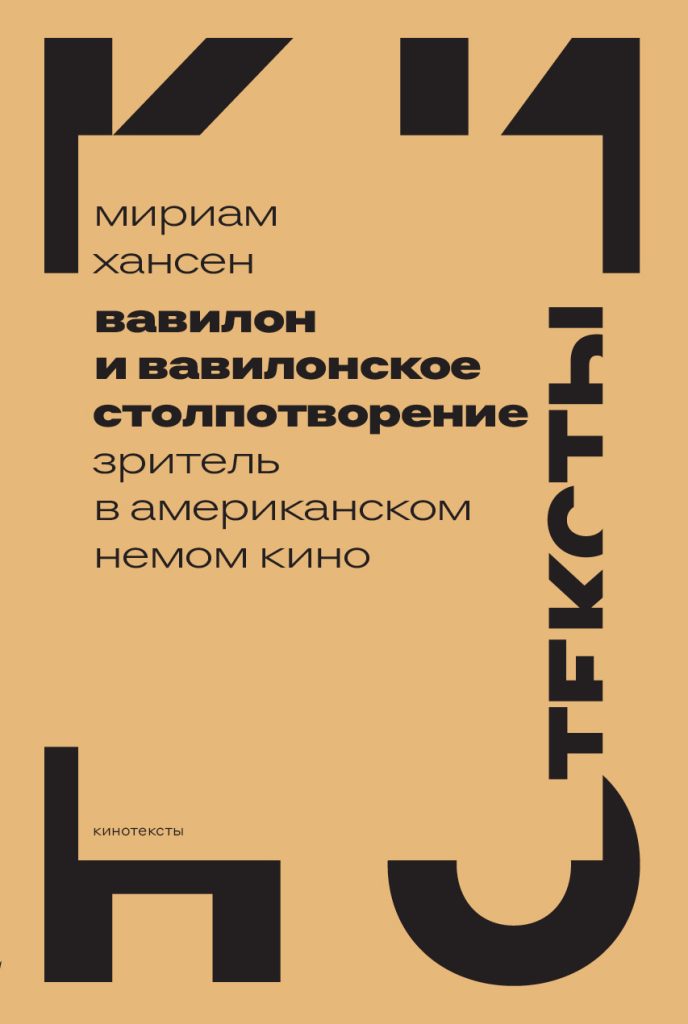 С какой ленты следует отсчитывать историю кинематографа? С «Прибытия поезда» братьев Люмьер? С «Замка дьявола» Жоржа Мельеса? Или, может, с «Комических фаз смешных лиц» Джеймса Стюарта Блэктона или даже с фильма Юрия Афанасьева «Наш папа — майонез»?
С какой ленты следует отсчитывать историю кинематографа? С «Прибытия поезда» братьев Люмьер? С «Замка дьявола» Жоржа Мельеса? Или, может, с «Комических фаз смешных лиц» Джеймса Стюарта Блэктона или даже с фильма Юрия Афанасьева «Наш папа — майонез»?
Историк кино Мириам Хансен дает не самый очевидный, но вполне справедливый ответ на этот вопрос. В мае 1897 года на экраны вышел «Бой Корбетта и Фитцсиммонса» — 100-минутный кинорепортаж о боксерском поединке между Джеймсом Корбеттом и Бобом Фитцсиммонсом.
Проект этот был революционным по нескольким причинам. Во-первых, хронометраж казался немыслимым для своего времени. Во-вторых, зрители, пришедшие в зал, не могли не заметить, что большинство мест заняли женщины. Что привлекло их в этой ленте, посвященной сугубо «мужскому» развлечению? Полуобнаженные атлеты, тела которых были бы скрыты от женской аудитории, если бы не изобретение братьев Люмьер.
Пионеры кинематографии не могли не обратить внимания на этот факт. По сути, вся дальнейшая история искусства стала возможной именно потому, что камера позволила делать видимым невидимое, потакать зрительским желаниям и, естественно, манипулировать ими. Во многом благодаря этому кино осознало себя как нечто большее, чем аттракцион, и уже 1910-е годы стали возможными эпохальные полотна, скажем, Дэвида Гриффита.
Конечно, в наши дни раннее немое кино может шокировать — откровенным расизмом, сексизмом и тому подобным. Однако книга Хансен заставляет признать: правила, по которым кино существовало и существует по сей день, были сформулированы именно тогда — в дешевых никельодеонах для самой непредвзятой публики.
«Соблазн, как и предел ролевого исполнения, является темой фильма Эдисона 1903 года „Что случилось в тоннеле“. Когда поезд метро входит в темный тоннель и экран погружается во тьму, пассажир пытается тайком поцеловать молодую женщину, а когда поезд выходит на свет, мужчина с ужасом обнаруживает, что поцеловал темнокожую служанку этой женщины. Эта расистско-сексистская шутка получает развитие: над мужчиной смеются обе женщины. Шутник, становящийся жертвой собственной шутки, — общее место в жанре комедии, но здесь важно то, что прямой взгляд служанки в камеру означает, что она не только не элемент декорации, но именно она, скорее всего, и разыграла эту шутку с подменой».
На русский этот чрезвычайно познавательный труд перевела Нина Цыркун — сама замечательная исследовательница жанрового кино. Если вдруг вы не понимаете, почему супергероические фильмы студии Marvel собирают такую кассу, обязательно ознакомьтесь с ее книгой «Американский кинокомикс. Эволюция жанра».
Всеволод Петров. Владимир Лебедев. М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. Содержание
 График и живописец Владимир Лебедев известен прежде всего в двух ипостасях: как автор «Окон РОСТА» и как многолетний иллюстратор «Детгиза». В действительности его творчество было куда многограннее.
График и живописец Владимир Лебедев известен прежде всего в двух ипостасях: как автор «Окон РОСТА» и как многолетний иллюстратор «Детгиза». В действительности его творчество было куда многограннее.
До революции Лебедев оттачивал мастерство рисовальщика, оставив огромное количество реалистических вещей, одновременно экспериментируя с формой и содержанием, вливаясь в общие поиски русского авангарда. Плакатная школа Гражданской войны наложила отпечаток на его последующее творчество, однако художник никогда не прекращал производить «высокое» искусство, пусть и остававшееся в тени Лебедева-карикатуриста и Лебедева-иллюстратора.
Монография советского искусствоведа Всеволода Петрова о Владимире Лебедеве была написана полвека назад и только сейчас дошла наконец до читателя. Проницательный зритель, Петров тщательно реконструирует творческую биографию художника — от первых детских рисунков до самых зрелых творений, ставших классикой книжной иллюстрации.
Эта книга, несомненно, не только приблизит читателя к самобытному автору, но и сообщит что-то новое о том, как создается и воспринимается визуальное искусство.
«В „Двенадцати месяцах“, а также и в более поздних акварелях уже почти нет и следов импрессионистического обобщения предметной формы. Каждый предмет, будь то занесенный сугробами домик или обледенелая ветка дерева, бегущая человеческая фигура, корзина с плодами или букет полевых цветов, прорисован в деталях и замкнут отчетливыми силуэтными очертаниями. Все твердо, все носит печать законченности и четкости. Только напряженность цветового строя смягчает застылую графику контуров и напоминает о былой, характерной для Лебедева динамике. Преобладание пейзажно-пространственных мотивов принудило Лебедева изменить и отдельные структурные принципы книжного оформления, которыми художник прежде никогда не поступался».
Владимир Пеняков. Частная армия Попски. М.: Individuum, 2023. Перевод с английского Н. Конашенка, Н. Мезина. Содержание. Фрагмент
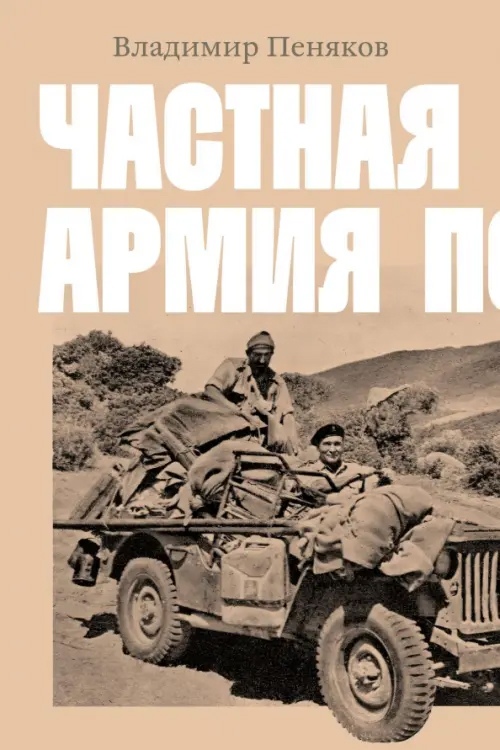 По этой книге хорошо бы снять голливудскую эпик-драму в духе «Лоуренса Аравийского», благо фактура ничуть не менее живая, а отечественному читателю — и вовсе близкая. Автор книги, Владимир Пеняков, родился в Бельгии в семье эмигрантов, уехавших с территории нынешней Украины в 1893 году. Владимир и его сестры получили классическое домашнее образование в духе интеллигенции царской России, родители общались в космополитичном кругу социалистов и старосветской богемы, дети были рядом. Особое влияние на Пенякова оказал его кузен по матери, поэт Леон Кочницкий, впоследствии министр иностранных дел республики Фиуме.
По этой книге хорошо бы снять голливудскую эпик-драму в духе «Лоуренса Аравийского», благо фактура ничуть не менее живая, а отечественному читателю — и вовсе близкая. Автор книги, Владимир Пеняков, родился в Бельгии в семье эмигрантов, уехавших с территории нынешней Украины в 1893 году. Владимир и его сестры получили классическое домашнее образование в духе интеллигенции царской России, родители общались в космополитичном кругу социалистов и старосветской богемы, дети были рядом. Особое влияние на Пенякова оказал его кузен по матери, поэт Леон Кочницкий, впоследствии министр иностранных дел республики Фиуме.
Семейную идиллию нарушила война: вопреки собственному утверждению, Пеняков не служил во французской артиллерии, однако успел поваляться в военных госпиталях, потом управлял химзаводом, вел компанейскую жизнь, писал роман. Вновь все перевернула смерть любимой сестры в 1922 году: Владимир Дмитриевич бросил все, уехал в Египет и вверил сердце искательству приключений — дальнейшее можно узнать в книге; описанные в ней события могут быть олитературены автором, но это не точно.
Ядро этих мемуаров — будни диверсионно-разведывательной группы, которую Пенякофф сколотил под крылом британской армии в годы Второй мировой на севере Африки. Она получила название «Частной армии Попски» (для нужд радиообмена трудную славянскую фамилию заменили на более звучный позывной). ЧВК наводила шорох в фашистских тылах, проводила совместные операции с итальянскими партизанами и в общем вела себя бесславно-ублюдски. Читать нескучно.
«Среди всех наших людей выделялся капрал Локк. Он выглядел очень сурово: черная пиратская повязка на пустой глазнице, лицо и бо́льшая часть тела исполосованы шрамами и разноцветными рубцами. Обращаться с оружием и водить он умел получше нашего и, похоже, прошел через самые жестокие передряги. Я говорю „похоже“, потому что так и не узнал его настоящей истории. Локк обладал богатым воображением. Байки, которые он рассказывал, изобиловали деталями и отличались восхитительной непоследовательностью. На первом собеседовании он сообщил мне, что по происхождению француз (якобы его фамилия на самом деле пишется Loques, но, вступив в британскую армию, он изменил написание на английское); что он год изучал химию в Лондонском университете, чем и объясняется его изящный, несколько книжный английский; что он испытывает неутолимую жажду немецкой крови и уже ликвидировал нескольких немцев своими руками, а, попав в мой отряд, надеется убить еще много врагов кинжалом, который носит под полевой курткой. Он служил танкистом, но шрамы заработал в рукопашных схватках с противником. По другой версии, появившейся позже, он был англичанином, родители его жили в Лидсе, а химию он год изучал в Сорбонне, где и навострился весьма бегло говорить по-французски. Глаз он потерял, когда запрыгнул через башенный люк в немецкий танк и уничтожил весь экипаж разводным ключом».