«Нам не нужна витрина-деньгосос»: главные книги недели
Что спрашивать в книжных
Эмилио Джентиле. Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом. СПб.: Владимир Даль, 2020. Перевод с итальянского Федора Станжевского. Содержание
 Мощная серия «Политическая теология» издательства «Владимир Даль» пополнилась переводом работы итальянского историка Эмилио Джентиле; в оригинале книга вышла относительно недавно — в 2001 году. Исследователь фокусируется на феномене сакрализации политики, который не следует путать с политизацией религии. Свой предмет Джентиле определяет следующим образом: во-первых, сакрализация политики возникает только в Новое время вместе с секуляризацией религии, возникновением массовой политики, изменением баланса между властью и священным; во-вторых, она воплощается в различных формах т. н. религий политического.
Мощная серия «Политическая теология» издательства «Владимир Даль» пополнилась переводом работы итальянского историка Эмилио Джентиле; в оригинале книга вышла относительно недавно — в 2001 году. Исследователь фокусируется на феномене сакрализации политики, который не следует путать с политизацией религии. Свой предмет Джентиле определяет следующим образом: во-первых, сакрализация политики возникает только в Новое время вместе с секуляризацией религии, возникновением массовой политики, изменением баланса между властью и священным; во-вторых, она воплощается в различных формах т. н. религий политического.
Историк на материале прошлого столетия разбирает две формы таких религий: политические религии и религии гражданские. Джентиле различает их по ответам на три вопроса: о соотношении между индивидом и государством, авторитетом и свободой, а также о статусе традиционных религий. К ярчайшим представителям первого лагеря автор относит фашистский, национал-социалистический и коммунистические режимы. В их случае ответы на первые два вопроса очевидны и сводятся к однозначной доминации государства и авторитета, отношение к религии может внешне разниться, но суть его неизменна — политическая религия стремится заместить собой традиционные схемы организации связи с сакральным.
Как мы видим, оптика Джентиле не позволяет разграничить нацизм и коммунизм, однако схватывает различные виды демократических систем как нечто им родственное. В гражданских религиях (парадигматический пример — США), указывает историк, политика также сакрализована, пусть и не в столь очевидной форме. Подобные системы стараются занять позицию над идеологиями и конфессиями, но требуют от «своей паствы» соблюдения определенных ритуалов и определенной веры (в «священный текст» Конституции, особую миссию нации и т. д.). Джентиле аккуратно отмечает, что гражданская религия всегда сохраняет потенциал переродиться в политическую, избегая таким образом идеализации какой-либо из форм.
Рекомендуется к прочтению всем подуставшим от расплывчатых рассуждений о том, как тоталитарные режимы XX века «заимствуют» те или иные элементы у религий; исследование Джентиле уточняет взгляд на проблему.
«Таким образом, для Римской церкви сущность тоталитаризма заключалась в политизации морали и сакрализации государства, или, как это обычно называлось, в статолатрии (поклонении государству). В действительности Римская церковь применяла этот термин не только к тоталитарным государствам, но и ко всем секулярным политическим концепциям, утверждавшим отделение церкви от государства и примат государственного суверенитета. Уже в XIX в. католическая церковь обвиняла либерализм в идолопоклоннической концепции государства, поскольку он желал освободить человеческую личность от учения церкви, чтобы подчинить воле государства».
Развернутый фрагмент исследования можно прочесть на «Горьком».
Джефф Вандермеер. Странная птица. Рассказы. СПб.: Найди лесоруба, 2020. Перевод с английского Наталии Меркуловой, Людмилы Ребриной, Амета Кемалидинова и др.
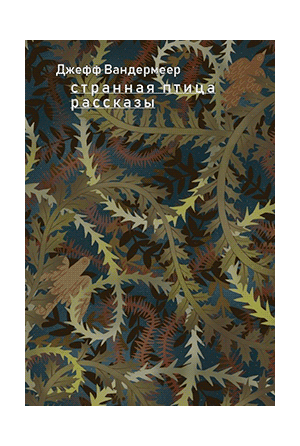 Американский фантаст Джефф Вандермеер прекрасно известен поклонникам new weird. Из представителей жанра самый знакомый неспециалистам, пожалуй, Чайна Мьевиль, Вандермеер же — по-гамбургскому счету, самый литературный. Что объединяет «новых странных»? В предисловии к книге редактор издательства «Найди лесоруба» Илья Пивоваров настаивает, что сущностные характеристики жанра в целом и текстов Вандермеера в частности — это, гм, их странность, а также безумность (для убедительности слово надо многократно повторить).
Американский фантаст Джефф Вандермеер прекрасно известен поклонникам new weird. Из представителей жанра самый знакомый неспециалистам, пожалуй, Чайна Мьевиль, Вандермеер же — по-гамбургскому счету, самый литературный. Что объединяет «новых странных»? В предисловии к книге редактор издательства «Найди лесоруба» Илья Пивоваров настаивает, что сущностные характеристики жанра в целом и текстов Вандермеера в частности — это, гм, их странность, а также безумность (для убедительности слово надо многократно повторить).
Сам Вандермеер, приложивший много усилий для кодификации жанра, в сборнике к антологии The New Weird (Tachyon Publications, 2008) писал, что новые странные — это «вид урбанистического фэнтези, который подрывает романтические идеи фэнтези традиционного, опираясь в создании сеттингов на сложные реалистические модели, где могут сочетаться элементы фэнтези и научной фантастики». Также стоит держать в уме, что к идейным вдохновителям направления относятся сюрреалисты и модернистский роман.
Широкой аудитории Вандермеер может быть известен по роману «Аннигиляция» (и его экранизации с Натали Портман), который входит в полностью переведенную трилогию «Южного предела» (его вообще много переводили и переводят). Последний цикл писателя открывает роман «Борн». События в нем разворачиваются в Городе, которым управляла биотехнологическая Компания; существовать она перестала, успев наводнить постапокалиптический мир причудливыми существами.
Повесть «Странная птица», открывающая сборник, относится к вселенной «Борна». Протагонистка, полуженщина-полуптица, оказывается выброшенной из лаборатории, где ее создали, в небо незнакомого мира. Здесь ее не принимают ни говорящие звери, ни люди, к которым птица особенно тянется, ведь по замыслу создателей «в ней слишком много от человека» (тут уместно вспомнить, что поэтика бесцельных скитаний лично близка Вандермееру, который родился в семье хиппи «первого призыва» и в юности странствовал с маниакальным увлечением). Проэкологический по духу текст насыщен, с одной стороны, тоской по невосполнимой утрате цельного и понятного мира, с другой — в нем есть некий просветленный оптимизм, поскольку никогда так не было, чтобы никак не было, и на смену руинам приходит новая, прекрасная и мучительная связность.
За повестью следуют рассказы из сборника «Третий медведь», которые широкой палитрой сюрреализма прекрасно отражают как общее вандермееровское настроение, так и принципиальную ставку фантаста на разнообразие.
«Но какое это имело значение? Для чего нужны тела? Где они заканчиваются и где начинаются? Почему они должны быть неизменными? Почему они должны быть сильными? Странная Птица столько всего потеряла, но и столько рассеяла, что пела от радости. Радости не от того, что не страдала, или того, что уменьшалась, а потому, что наконец была свободна. Мир нельзя было спасти, но и разрушен он не был.
И прекрасная птица разразилась трелью».
Сергей Третьяков. От Пекина до Праги. Путевая проза 1925–1937 годов (Очерки, «маршрутки», «путьфильмы» и другие путевые заметки). СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020
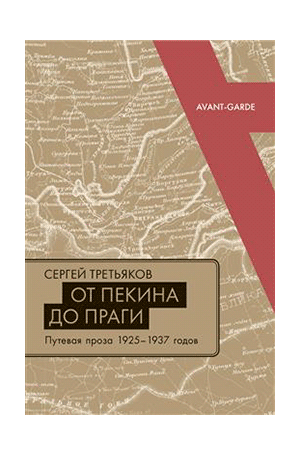 Один из самых издаваемых авторов середины 1920-х — середины 1930-х, а ныне мало известный широкой аудитории Сергей Третьяков успел побывать футуристом, драматургом, журналистом, сценаристом, фотографом и теоретиком медиа. Он был другом Эйзенштейна, вдохновителем Беньямина (концепция «автора как производителя» — это про Третьякова), собеседником Брехта, чьи тексты советский авангардист первым стал переводить на русском.
Один из самых издаваемых авторов середины 1920-х — середины 1930-х, а ныне мало известный широкой аудитории Сергей Третьяков успел побывать футуристом, драматургом, журналистом, сценаристом, фотографом и теоретиком медиа. Он был другом Эйзенштейна, вдохновителем Беньямина (концепция «автора как производителя» — это про Третьякова), собеседником Брехта, чьи тексты советский авангардист первым стал переводить на русском.
Одним из главных дел жизни Сергея Михайловича были путешествия и создание текстов непосредственно в перемещении. Географический охват его мобильности впечатляет: с начала 1920-х и вплоть до расстрела в 1937-м Третьяков успел проехать от Китая до Дании, причем основной массив поездок пришелся на территорию молодого советского государства.
Подобные вылазки не были чем-то исключительным — с момента создания Союза многие медиадеятели (писатели, журналисты, фотографы, режиссеры) принялись объезжать уголки растущей страны, но Третьяков был из них самым деятельным и рефлексивным. Он был наблюдателем того, как новая жизнь проникает в прежний уклад, и вместе с тем — служил агентом и проводником этой новизны. Иными словами, Третьяков радикализировал документалистику, применяя ее как средство обновления общественной жизни. Свою роль путешественник прекрасно осознавал: это следует из его концепции «оперативного» письма, которое предполагает не воспроизведение действительности «как она есть», но вторжение в нее с целью проецировать «как должно быть».
Документальные форматы, в которых работал Третьяков, крайне разнообразны: он ведет включенное наблюдение за колхозами, участвует в суде над кулаками, пишет сценарии для документальных фильмов, сочиняет «маршрутки» — путеводители для пассажиров поездов дальнего следования и кинематографию в прозе, пересматривает роль фотографии в репортажных текстах, неустанно переосмысляет то, что видит, и роль медиа в эпоху больших перемен.
Все это отражено в сборнике, который собран из фрагментов двенадцати путевых книг писателя; тексты дают представление о генезисе основных сюжетов и динамике мысли авангардиста. Их общее настроение — взвинченная, неусидчивая бодрость, что с одной стороны отражает дух времени, а с другой — невероятно деятельную и уверенную натуру Третьякова, который произвел на Готфрида Бенна впечатление «литературного чекиста», поражавшего «изощренностью и притягательной полемичностью».
«Будут ли при социализме улицы полыхать вывесками? Будет ли художник социалистического государства изобретательствовать в витринах? <...>
Нам не нужна витрина конкурентствующая. Не нужна витрина гипнотизирующая.
— Да ну, купите же.
Не нужна витрина-деньгосос.
Но ведь и витрины, кроме зазывной истерики, есть показ вещей, учеба как с ними обращаться.
Правильно, чтобы социалистические „магазины” превратились в распределители, где место витринных вывесок вполне заменят прейскуранты. Но не должна ли витрина отделиться от магазина и начать жить в виде постоянной выставки вещей? Каждое новое изобретение, каждая облегчающая человеческую жизнь вещь должны быть выставлены на этих выставках. Прежде чем покупать, а не во время покупки, человек должен уяснить себе, как вещами пользуются и какие из них ему лучше подходят».
Львы, люди, орлы, куропатки... Антропоморфные и зооморфные репрезентации наций и государства в славянском культурном дискурсе. М.: Институт славяноведения РАН, 2020. Содержание
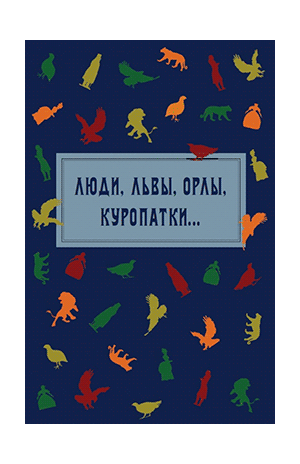 Сборник статей, посвященных интересному и методологически сложному вопросу: как формировались антропоморфные и зооморфные образы славянских народов? Проще говоря, как вышло, что русские стали отождествлять себя с медведем, поляки — с орлом, а, скажем, чехи — с соколом? Как получилось, что для персонификации европейских держав прижились женские образы, а для изображения сословий и классов — мужские?
Сборник статей, посвященных интересному и методологически сложному вопросу: как формировались антропоморфные и зооморфные образы славянских народов? Проще говоря, как вышло, что русские стали отождествлять себя с медведем, поляки — с орлом, а, скажем, чехи — с соколом? Как получилось, что для персонификации европейских держав прижились женские образы, а для изображения сословий и классов — мужские?
Выработка визуальных и символических стереотипов является ключевым элементом «изобретения традиции» — если пользоваться термином Эрика Хобсбаума, которое, в свою очередь, сущностно необходимо для создания «воображаемого сообщества», пишет доктор исторических наук Мария Лескинен в открывающем книгу тексте. Этот процесс соотносится с созданием коллективных типологий, которые восходят еще к античности: речь о жанре народоописаний, где жителям тех или иных стран приписываются различные качества и характерные феномены.
Из книги можно извлечь массу занятных сюжетов. Так, например, выясняется, что в XIX веке образ медведя адресовался не столько России, сколько царской власти, а смещение акцентов начало происходить лишь в Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Или, скажем, что главными героями словенской карикатуры в конце XIX века были двое: «немчур» — этнический словенец-ренегат, буржуа, отказавшийся от родного языка и культуры в пользу немецких ценностей. Ему противостоял простой крестьянский словенец Краньской Янез. Это пара иллюстрирует одну из важных функций визуальных стереотипов: персонифицировать пару «свой — чужой».
Сборник богатейшим образом проиллюстрирован, так что гадать, о чем пишут авторы, не приходится.
«Россию (Московию) представляет императрица Анна Иоанновна (ил. 13). Недостатки „московитов” — „худшие”, нравы — „дикие”, любовь — „простая”, типичная болезнь — астма. Олицетворяет русских лось. На гравюре „Polonus” король Август III из саксонской династии; среди перечня особенностей, помимо стереотипных (например, воинской храбрости), следует упомянуть отождествление поляков с медведем (ил. 14)».
Глеб Морев. Поэт и Царь. Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский. М.: Новое издательство, 2020. Содержание
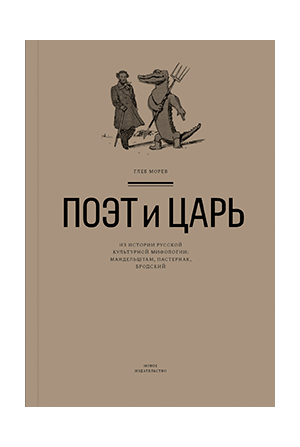 Дихотомия «Поэт/Власть» имеет долгую историю в русской литературе и является едва ли не основным ее политическим фундаментом. Несмотря на очевидную важность этого сюжета, сказано о нем одновременно много и при этом практически ничего — ведь слишком велик для исследователя соблазн занять в каждом отдельном случае сторону либо поэта-мученика, либо справедливого в своей строгости властителя. Новая книга Глеба Морева призвана наконец дать читателю объективную оптику, через которую можно взглянуть на противостояние между артистическими вольнодумцами и репрессивной машиной государства.
Дихотомия «Поэт/Власть» имеет долгую историю в русской литературе и является едва ли не основным ее политическим фундаментом. Несмотря на очевидную важность этого сюжета, сказано о нем одновременно много и при этом практически ничего — ведь слишком велик для исследователя соблазн занять в каждом отдельном случае сторону либо поэта-мученика, либо справедливого в своей строгости властителя. Новая книга Глеба Морева призвана наконец дать читателю объективную оптику, через которую можно взглянуть на противостояние между артистическими вольнодумцами и репрессивной машиной государства.
Подступаясь к вопросу, Морев в первую очередь указывает, что в нашей логоцентричной культуре Поэт удивительным образом наделяется силой, если не превосходящей государственную, то хотя бы претендующей на равноправный с ней диалог. Во-вторых, в русской традиции Поэт обязательно должен быть независимым, иначе он не может претендовать на высокий профетический статус, без которого поэт в России не больше, чем поэт.
На примере судеб трех в разной степени репрессированных писателей Морев тщательно анализирует большой миф о Поэте и Царе, реконструируя, насколько это возможно, случаи Мандельштама и Бродского (читай: Сталина и Брежнева). Если верить изысканиям, собранным в книге, наши представления об этих историях взаимоотношений между художником и государством не всегда соответствуют реальности, а их действующие лица могут представать с неожиданной стороны. Так, оказывается, Сталин (судя по всему — совершенно искренне) журил Пастернака за то, что тот недостаточно активно защищал перед властями своего друга Осипа Эмильевича, а Бродский, несмотря на ненависть к советскому строю, не собирался навсегда покидать родину, видя себя в роли поэта, «гастролирующего» между Западом и Востоком.
В сборник вошли переработанные и дополненные статьи Морева, ранее опубликованные на «Кольте» и в альманахе Wiener Slavistiche Jahrbuch.
«3 июня Мандельштам с женой прибыли в Чердынь, ночью поэт выбросился из окна больницы. 5 июня Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву о попытке самоубийства Мандельштама и о его психическом заболевании. Одним из ее адресатов был покровительствовавший поэту с конца 20-х годов Н. И. Бухарин, недавно (в феврале 1934 года) ставший главным редактором газеты „Известия”. После получения телеграммы Надежды Яковлевны Бухарин в очередном деловом письме Сталину поднимает тему ареста Мандельштама, упоминая, что к нему „все время апеллируют” защитники поэта и, в частности, отдельно подчеркивая „полное умопомрачение” Бориса Пастернака „от ареста Мандельштама”. Среди дел, затронутых в письме Бухарина, внимание Сталина привлекает только пункт, касающийся Мандельштама. Он подчеркивает его красным карандашом и синим карандашом оставляет на письме резолюцию: „Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие...”»