Где живокость в комоде морит моль
Лев Оборин — о четырех поэтических новинках этого месяца
Полное собрание Михаила Еремина, Чайковский в «роговой обманке» Андрея Сен-Сенькова, хоссанитская эзотерическая лирика Валерия Нугатова и постконцептуалистская хонтология Артема Верле. О главных поэтических новинках, вышедших в последнее время, для «Горького» рассказывает Лев Оборин.
Михаил Еремин. Стихотворения. М.: Новое литературное обозрение, 2021
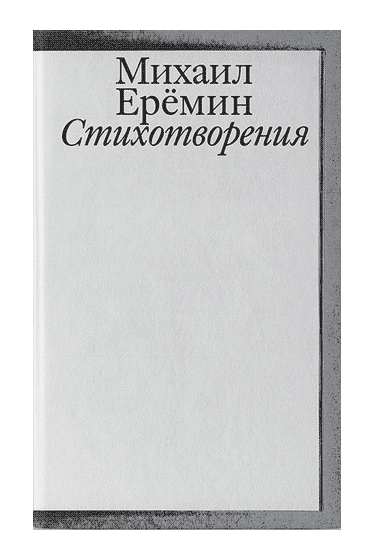 Это важнейшее поэтическое событие: полное собрание выдающегося поэта, чья манера, мгновенно узнаваемая, сформировалась еще на рубеже 1950–1960-х. Форма, которой Михаил Еремин придерживается шесть десятилетий, — это всегда восьмистишие: в нем спрессовано сложное высказывание, в чьем синтаксисе дан ключ к его разворачиванию. Стихи Еремина напоминают снимки пересеченной местности. Скобки, риторические вопросы, ветвящиеся, иногда от одного слова, цепочки ассоциаций. Задающие некую этическую программу инфинитивные конструкции. Тонкая — на уровне звукописи, отдельных букв — игра слов. «Бо г/р» — речь и о Боге, и о боре. В первой строке другого стихотворения осенний лес напоминает гобелены — в последней строке возникнет слово «гибелен». В строках «А скромной зелени бордюра неуемной белизной / Не залили ли лилии» повторенный пять раз слог «ли» создает, в самом деле, ощущение перехлестывания. Эти стихи, взыскуя медленного чтения, остаются распевными: недаром Еремин проставляет в них ударения.
Это важнейшее поэтическое событие: полное собрание выдающегося поэта, чья манера, мгновенно узнаваемая, сформировалась еще на рубеже 1950–1960-х. Форма, которой Михаил Еремин придерживается шесть десятилетий, — это всегда восьмистишие: в нем спрессовано сложное высказывание, в чьем синтаксисе дан ключ к его разворачиванию. Стихи Еремина напоминают снимки пересеченной местности. Скобки, риторические вопросы, ветвящиеся, иногда от одного слова, цепочки ассоциаций. Задающие некую этическую программу инфинитивные конструкции. Тонкая — на уровне звукописи, отдельных букв — игра слов. «Бо г/р» — речь и о Боге, и о боре. В первой строке другого стихотворения осенний лес напоминает гобелены — в последней строке возникнет слово «гибелен». В строках «А скромной зелени бордюра неуемной белизной / Не залили ли лилии» повторенный пять раз слог «ли» создает, в самом деле, ощущение перехлестывания. Эти стихи, взыскуя медленного чтения, остаются распевными: недаром Еремин проставляет в них ударения.
И конечно, самая отмечаемая особенность поэзии Еремина — ее лексическое разнообразие, даже эклектичность. В послесловии к «Стихотворениям» Юлия Валиева констатирует: «Поэзия М. Еремина требует от читателя интеллектуальной концентрации. Отсылками к Библии, античной философии, живописи Возрождения, трудам Карла Линнея; реминисценциями к метафизической поэзии XVII в., Шекспиру, Пушкину, русскому футуризму, англо-американскому имажизму, акмеизму, переводам Пастернака создается поэтическое пространство, в котором сохраняется изначально заданный ритм». Все перечисленные отсылки свернуты в одном восьмистишии — и такую же «развертку» можно проделать практически с большинством ереминских стихотворений. Это действительно стихи, которые стоит читать со словарем (Александр Житенев не случайно дал своей статье о Еремине — очень полезной для тех, кто хочет разобраться в ереминском словоупотреблении, — подзаголовок «Поэтика словаря»). У загадок Еремина есть отгадки — но чтобы приблизиться к смыслу его стихов, попытаться ответить на выдвинутые в них вопросы, нужно не лениться проверить, что такое «кобь» или «мяндовый», «жеода» или «гравитропизм», «коаксиальность» и «реотаксис». Нужно вникнуть в авторское значение, которое Еремин вкладывает в изобретенные им глаголы — «российствовать», «диджействовать», «одиночествовать», а то и «тиртействовать» (от имени древнегреческого хромого поэта Тиртея) или «циркумцеллионствовать» (от названия радикальной христианской секты поздней античности). Стоит оценить, как на расширение его словаря влияет время: Еремин улавливает в новом слове важное значение, для которого раньше слов не было. «Похоже, что в геноме всякой твари / Имеет место риск. Не столь же венчурно / Возникновение живого на земле, / Как сотворение по образу-подобию?»: слово «венчурный», пришедшее из делового жаргона, прекрасно подходит для гипотезы о сотворении мира как огромной рискованной инвестиции.
Олег Юрьев замечал, что из всех поэтов «филологической школы» Еремин — единственный «филологический по сути» поэт, «пристально наблюдающий вращение жерновов родного языка». Но филологичность — не только в словаре, не меньше значит умение считывать многочисленные аллюзии — это может быть Библия или строки Пушкина (иногда Еремин в порядке пояснения дает эпиграф перед стихотворением или ссылку на источник после него), а может быть история древнего искусства:
Не то ваятель Лаграветтской правенеры
(Преображенье божества в богиню.)
Задолго до паросских плеч и бедер,
Плененный прелестями соплеменниц,
Не разгадал, что не была бы,
Когда б не выдворенье из Эдема,
Столь дивна женщина любовью
Ее, тем более ее?
Или история современности. В свое время я пробовал разобрать стихотворение «Цепкую проволоку...», где появляется «козлоногий кустарь», наполняющий бокалы красным вином. Понимание пришло, только когда коллега указал мне на дату написания: 1985 год, начало горбачевской антиалкогольной кампании и длящаяся война в Афганистане. Вот и связь виноградной лозы с колючей проволокой.
Притом, как пишет в предисловии к книге Сергей Завьялов, в «циклопическом, беспрецедентном для русской поэзии словаре Михаила Еремина... отсутствует одно слово, обогнавшее в русском языке по частотности все остальные. Это слово Я». Еремин за десятилетия до очень многих роняет в поэтическую почву семена бессубъектности, о которой так много писали в последние годы. Плоды этих семян — многочисленные точки зрения, ракурсы, с которых можно смотреть на мир; безгласное «я» оказывается ростком интереса, каким-то прозрачным стеблем, отличным от «равнодушной природы» — от «лона заводи», которое «с холодным блеском / Удваивает что брюшко ничтожной водомерки, / Что Водолея звездный лик»). В случае Еремина в основе этого отказа от «я» — интерес к преображению мира, готовность к учтивости, восхищению, страданию за него, интерпретации происходящего с ним:
Сакральные куртины, рощи и дубравы
В долгу у ревностных адептов
За истовое почитание
И в страхе, что за промедленье в исполненье мольб,
Того гляди, сведут под корень
Нетерпеливые поклонники. Товарный древостой
Зависит от лесопромышленников.
Но где-то, говорят, живется вольно самосеву.
Под этим стихотворением есть краткое пояснение (что-то вроде эпиграфа наоборот) — «ЛК РФ. 2.15; 1.16, 19»: отсылки, очевидно, к статьям Лесного кодекса, регламентирующего пользование лесами. Бытие леса и гибель леса — сквозные мотивы ереминской поэзии. Многие его тексты об этом — как бы комментарии к одиночному впечатлению, максимальное его укрупнение:
Войти под кров древесных крон (Фитоценоз
На третий день Творения?), как в храм,
Понеже лесом осязаемо движение
И видимо кипрейным гарям
И вейниковым вырубкам,
И не у всякого дыхания,
Но у растений —
Не сказано ли? — пренатальный опыт смерти.
Как недавно сформулировала Анна Родионова, «поэзия этична, потому что отзывчива». У ереминской эстетики вглядывания, барочного связывания наблюдаемого мира со всем неповерхностным универсумом знаний может быть несколько этических (в смысле скорее этоса, чем этики) последствий. Вот два стихотворения 2003 и 2016 годов:
Не в некотором ли краю,
Где живокость в комоде морит моль,
А сахаромицеты
Живят в деже опару,
Ничтожиться,
Покорность переняв
От вытеребленного льна? Крамольность —
От конопляных волн?
То есть — не стоит ли в том мире, где все идет по-заведенному, но в этой заведенности — и гибель, и созидание, оставаться максимально пассивным, ведь некие смыслы и качества в тебя все равно будут вчитаны культурой?
Проведать о коварной силе, заключенной в настуране,
И высвободить оную.
Прознать, что в роговой обманке некогда,
Невесть зачем, упрятано зеленое бутылочное
Стекло, и выплавить.
Прозреть в каррарской или, скажем, коелгинской глыбе
Чело поэта, торс героя, выворотность балерины,
И (фермуар, бучарда, вдохновение) создать.
А здесь, напротив, речь о творении. Это стихотворение, перечисляющее минералы, отсылает, судя по всему, к словам, приписываемым Микеланджело и Родену («Беру камень и отсекаю все лишнее»), — но утверждает не создание прекрасного, а сам принцип высвобождения потенциала из материи (настуран — это ураносодержащий минерал, и понятно, какую силу из него можно получить). Стихи Еремина создают разные возможности, ставя вопрос: как вести себя по отношению к миру?
Книга завершается избранными переводами Еремина — которые резонируют с его поэзией: Т. С. Элиот — медитативным тоном, Харт Крейн — темами, Мухаммад Икбал — масштабом сравнений («Наш мир земной — он наших чувств и ощущений плод: / Он есть пока мы бодрствуем, уснем — он пропадет. // Я взгляд перевожу с земли на небо, вновь на землю — / В тот миг вычерчивает циркуль взгляда небосвод»), а Хушхаль-хан Хаттак — морализмом, который в собственных стихах Еремина лишь едва уловим. Переводы блистательные.
Андрей Сен-Сеньков. Чайковский с каплей Млечного пути. М.: всегоничего, 2021
 Новая книга минималистского проекта «всегоничего» — проиллюстрированный Борисом Кочейшвили цикл стихотворений Андрея Сен-Сенькова, одного из самых изобретательных поэтов последних десятилетий. Поэзия Сен-Сенькова строится на «сближении далековатых понятий» и на точечных сдвигах смысла и лексической сочетаемости. Эти сдвиги наделяют предметы нервической одушевленностью, а людей вписывают в некий круговорот превращений. Значительная часть поэтики Сен-Сенькова зависит от работы с необычными, колюще-поэтическими фактами и фактоидами. С легендами, подпитывающими городское воображение, с материалом для википедического раздела «Знаете ли вы?» или энциклопедии диковинок Atlas Obscura. Манера эта очень увлекательная, даже привязчивая.
Новая книга минималистского проекта «всегоничего» — проиллюстрированный Борисом Кочейшвили цикл стихотворений Андрея Сен-Сенькова, одного из самых изобретательных поэтов последних десятилетий. Поэзия Сен-Сенькова строится на «сближении далековатых понятий» и на точечных сдвигах смысла и лексической сочетаемости. Эти сдвиги наделяют предметы нервической одушевленностью, а людей вписывают в некий круговорот превращений. Значительная часть поэтики Сен-Сенькова зависит от работы с необычными, колюще-поэтическими фактами и фактоидами. С легендами, подпитывающими городское воображение, с материалом для википедического раздела «Знаете ли вы?» или энциклопедии диковинок Atlas Obscura. Манера эта очень увлекательная, даже привязчивая.
В новой книге Сен-Сеньков нарочито механически объединяет биографию Чайковского с фактами о Солнечной системе и межзвездном пространстве. Фобос, «единственный спутник в солнечной системе», который «восходит на западе и восходит на востоке», — это «такой марсианский стеклянный мальчик / ни на кого не похожий» (один из примеров проявления важного для истории Чайковского гомоэротического мотива). А «пояс златовласки», которому Сен-Сеньков сначала дает астрономическое определение («идеальное расстояние планеты от ее звезды / чтобы вода на поверхности / не испарялась и не замерзала») ассоциируется с балетной/цирковой ролью:
златовласка в черевичках
идет по проволоке
натянутой между цирковыми планетами
жонглирует маленькими аплодисментами
веснушчатых небожителей с рыжими крыльями
Во всем этом немало «детского» энциклопедизма (и в книге есть интермедия со стилизованными детскими стихами о планетах — «У Сатурна очень много / Ледяных колечек. / Покататься на коньках там / Хочет человечек»). Вместе с тем «Чайковский с каплей Млечного пути» — книга довольно грустная. Ее космическая условность подчеркивает неизбывность, закольцованность общей европейской мифологии, где сосуществуют мелодии Чайковского и Штрауса — и концлагеря, где смерть остается неизбежной:
вокруг юпитера летает спутник европа
там стоит ледяная эйфелева башня
замерзает голубой дунай
в кратере аушвиц сжигают людей
в александро-невской лавре лежит композитор
И чем дальше, тем грустнее и трогательнее: короткие стихотворения становятся еще короче, в финале книги Сен-Сеньков разбирается уже с отдельными протонами и электронами, вспоминает Вифлеемскую звезду и отправляет в космос одинокого космонавта. Разрозненные ноты рождественской, романтической, старомодной музыки — в огромном пустом зале.
Валерий Нугатов. Едодой! Краснодар: Асебия; Тверь: Kolonna Publications, 2021
 Несколько лет назад — на самом деле уже кажется, что в другую эпоху — поэт и переводчик Валерий Нугатов подарил вторую жизнь криминальному авторитету Деду Хасану и заставил его говорить «хоссонецким» языком. Получилась промежуточная ступень между жаргоном падонкав и языком Ктулху — нечто удалое и жуткое одновременно. У этого языка есть своя азбука (а у Хоссана — своя конституция), на нем можно написать диктант. «Едодой» на этом языке, собственно, означает «Это да» — универсальная присказка, которую Дедужко Хоссан и его друзья (уннучехи) оставляют в фейсбучных комментах. Ну вот, например, начало стихотворения про то, как все русские поэты и писатели умерли от коронавируса:
Несколько лет назад — на самом деле уже кажется, что в другую эпоху — поэт и переводчик Валерий Нугатов подарил вторую жизнь криминальному авторитету Деду Хасану и заставил его говорить «хоссонецким» языком. Получилась промежуточная ступень между жаргоном падонкав и языком Ктулху — нечто удалое и жуткое одновременно. У этого языка есть своя азбука (а у Хоссана — своя конституция), на нем можно написать диктант. «Едодой» на этом языке, собственно, означает «Это да» — универсальная присказка, которую Дедужко Хоссан и его друзья (уннучехи) оставляют в фейсбучных комментах. Ну вот, например, начало стихотворения про то, как все русские поэты и писатели умерли от коронавируса:
увмерллэ од хойроннэвейрюць
мейхоэлл войцелъовечь лоймэннэцэво!
увмерллэ од хойроннэвейрюць
гойвреэлл роймоннэвечь дэрьжойвенн!
увмерллэ од хойроннэвейрюць
ойлэхцондор цэрьгэйовечь пюжьхенн!
увмерллэ од хойроннэвейрюць
мейхоэлл уръовечь лэрьмэндэво!
увмерллэ од хойроннэвейрюць
ойлэхцондор цэрьгэйовечь хрейбээдэво!
И так до актуальной современности: любимый прием Нугатова — сериальность ad nauseam, в чем может убедиться читатель поэмы «Каминаут», тоже вошедшей в сборник. В книге есть и другие вещи такой длины: например, «Хлоахэ!» — пародия на пародию, скрупулезная переделка второй части сорокинской «Нормы». Там, где у Сорокина были «нормальные роды», «нормальный мальчик», «нормальный крик» и так далее до «нормальной смерти», у Нугатова все это «хлоэчьноэ». Комментарий к давешнему скандалу с Гасаном Гусейновым: «клоачность» не так уж далека от «нормы», замена почти синонимическая.
Впрочем, уже по этой пародии ясно, что Нугатов наследует у концептуализма остраняющую, абсурдирующую работу с политическим; с языками публичной дискуссии (а вернее, ее отсутствия), симуляции и хейт-спича. Забавный факт: от сборника отказалась первая типография, в которой его захотели напечатать, пришлось искать другую. Может быть, причиной стало стихотворение, эксплуатирующее известную украинскую кричалку про Путина. А может быть, виновато стихотворение «Навальный!», целиком состоящее из рифм к фамилии героя — от «Авральный!» и «Многофункциональный!» до «Юстировальный!» и, внезапно, «Яойный!». Завершает сборник пьеса «Крым», в котором все тем же русским классикам приходится стать хипстерами и филистерами и трепаться о потреблении, в то время как «невдалеке разрывается фугасный снаряд».
Уязвимость позиции Нугатова — и в пересмешничестве, которым, в общем, трудно удивить, и в ясности приема, для которого хоссонецкая орфография служит необходимым балластом. Но этим проблемам в сборнике можно найти противовесы. Во-первых, свойственный сериализму напор: что угодно, если повторять это достаточно долго, превращается в мантру.
1 миллион рублей!
2 миллиона рублей!
3 миллиона рублей!
4 миллиона рублей!
5 миллионов рублей!
6 миллионов рублей!
7 миллионов рублей!
8 миллионов рублей!
9 миллионов рублей!
10 миллионов рублей!
11 миллионов рублей!
12 миллионов рублей!
(Не будем цитировать до конца: стихотворение называется «200 000 000 ₽!»). Во-вторых, сквозь прием прорывается-таки эмоция, никак не сводимая к чистой механике. Может быть, это даже растерянность. Например, когда Нугатов, перебирая варианты, рассказывает, что «дед хоссан / ннэ торзан» или что «рубинштейн / ннэ айзенберг». Ну и Никита Сунгатов, соответственно, «ннэ нугатов».
Артем Верле. Неполное собрание строчек. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2021
 Этот проект в каком-то смысле противоположен нугатовскому. В 2014-м Артем Верле (чью книгу миниатюр «Краны над акрополем» мы рецензировали год назад), опубликовал три «неполных собрания строчек» в «Воздухе». Это были извлечения из поэтов XIX века, которых обычно причисляют ко второму, а то и к третьему ряду: Константина Случевского, Аполлона Майкова, Льва Мея. Вырванные из контекста, эти строки выглядят комично («Под общий уровень ей подогнуться трудно...») — и при этом иногда очень свежо, как будто попали в сочинения поэта из недоступного ему будущего («Пахнет в воздухе гнездом...»). Теперь Верле расширил идею до целой книги — и расположил поэтов в хронологическом порядке, от Хераскова и Державина до шестидесятников.
Этот проект в каком-то смысле противоположен нугатовскому. В 2014-м Артем Верле (чью книгу миниатюр «Краны над акрополем» мы рецензировали год назад), опубликовал три «неполных собрания строчек» в «Воздухе». Это были извлечения из поэтов XIX века, которых обычно причисляют ко второму, а то и к третьему ряду: Константина Случевского, Аполлона Майкова, Льва Мея. Вырванные из контекста, эти строки выглядят комично («Под общий уровень ей подогнуться трудно...») — и при этом иногда очень свежо, как будто попали в сочинения поэта из недоступного ему будущего («Пахнет в воздухе гнездом...»). Теперь Верле расширил идею до целой книги — и расположил поэтов в хронологическом порядке, от Хераскова и Державина до шестидесятников.
Книга эта захватывает — но довольно странным образом. Значительная часть античной поэзии дошла до нас именно в таких фрагментах; Верле проделывает работу «реки времен», выбрасывающей на берег отдельные камешки и коряги, над русскими поэтами, которых мы можем запросто прочитать целиком. Позиция, в которую он встает, делает его книгу именно проектом — причем весьма ответственным, несмотря на шутливый характер. Верле не просто отбирает строки, которые сегодня звучат курьезно, сюрреалистично, неожиданно современно — но и авторов, обрекаемых этому принудительному руинированию. В каждом случае за таким жестом стоит своя логика. С одной стороны, здесь «малые поэты», которые сегодня основательно забыты и, если говорить о «широком круге читателей», в лучшем случае попадают одним-двумя текстами в школьные хрестоматии. С другой, поэты XVIII века (в первую очередь Державин), чей авторитет остается незыблемым, но время все больше отдаляет от нас возможность их непрофессионального и в то же время хоть сколько-то адекватного прочтения. С третьей, Верле не щадит даже Пушкина — но у него берет отброшенные строки из ранних редакций «Евгения Онегина», так сказать, остатки стройматериала после работы над Памятником («Люблю поспешною рукою...», «Довольно пусто было в зале...»). Наконец, доходя до советских поэтов, Верле констатирует — по крайней мере для себя — их преждевременную (или своевременную?) обветшалость. Самый спорный случай здесь — Эдуард Багрицкий, а вот шестидесятники вообще даны скопом, без разбора имен, как руина некоей антологии. Надо сказать, что иногда их отдельные строчки завихряются в сюжеты:
10
Когда Ильич в больших снегах...
11
Стучался в ресторан «Узбекистан»...
12
И высоко над ним плыл Пастернак...
13
Поддержки он моей — хоть треснет! — не получит...
Если согласиться на время чтения книги с этим антологическим произволом, «Неполное собрание строчек» обретает новое качество. Возможно, оно-то и замышлялось как главное. Извлеченные из своих текстов, превращенные в моностихи, отдельные строки обращают на себя внимание, сверкают нежданным светом. «Кому слышна булавки боль...» (Державин), «Стремится перейти в прохладнейший предел...» (Муравьев), «Животворящая душа пустых карманов...» (Богданович) и даже «Человечество, прости!..» (Мерзляков). Впору вспомнить моностих-афоризм Яна Сатуновского: «Главное иметь нахальство знать что это стихи». Верле, иссекая афоризмы из поэтических тел прошлого, предлагает нам другое нахальство: забыть, что были какие-то другие стихи.