Мы все вернем назад: «Национализм, миф и государство» Велько Вуячича
Рецензия на книгу о распаде Советского Союза и Югославии
Европейский университет в Санкт-Петербурге выпустил монографию Велько Вуячича, посвященную двум национализмам: сербскому и русскому. Эдуард Лукоянов — о том, почему эту книгу стоит прочитать всем, кто хочет понять патриотические мифы, сложившиеся в двух странах с совершенно разной, но одинаково драматичной историей.
Велько Вуячич. Национализм, миф и государство в России и Сербии. Предпосылки распада СССР и Югославии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. Перевод с английского Александры Глебовской
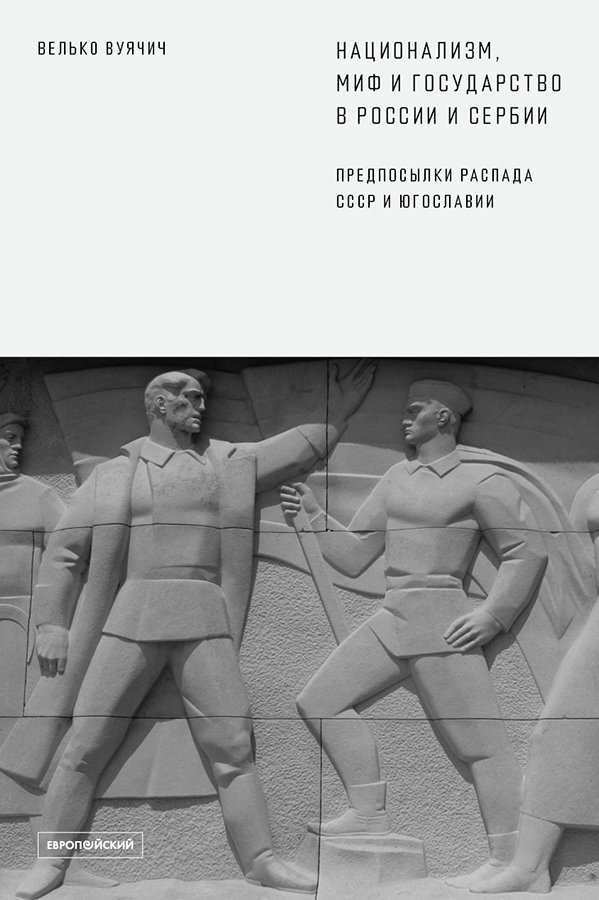 Без малого тридцать лет назад, почти синхронно прекратили свое существование две крупнейшие в Европе социалистические державы: СССР и СФРЮ, Советский Союз и Югославия. При внешней схожести двух государств, судьба их сложилась совершенно по-разному. И в СССР, и в Югославии было федеративное устройство — по крайней мере, номинальное в Союзе и ярко выраженное — в СФРЮ. В обеих странах было этническое ядро: русские и сербы.
Без малого тридцать лет назад, почти синхронно прекратили свое существование две крупнейшие в Европе социалистические державы: СССР и СФРЮ, Советский Союз и Югославия. При внешней схожести двух государств, судьба их сложилась совершенно по-разному. И в СССР, и в Югославии было федеративное устройство — по крайней мере, номинальное в Союзе и ярко выраженное — в СФРЮ. В обеих странах было этническое ядро: русские и сербы.
Советский Союз распался относительно мирно, если оставить за скобками конфликты на периферии. Югославию ждала череда кровавых гражданских войн, интервенция и окончательный распад на шесть или семь (их число в настоящее время уточняется) республик.
Москва не только спокойно приняла парад суверенитетов, но порой едва ли не сапогами выталкивала из Союза «лишние» республики. Около 25 миллионов русских, ставших гражданами Украины и Казахстана, не волновал их статус меньшинств в новых государствах. Равно как и в России образца 1991–1993 годов не были слышны призывы к русской ирреденте.
Белград, напротив, до последнего пытался силой сохранить целостность государства. Сербские националисты увидели в распаде Югославии угрозу не столько дышавшему на ладан режиму, сколько самому своему существованию как народа.
Почему русские и сербы при внешней схожести своих государств настолько по-разному восприняли конец социализма? Ответ на этот вопрос ищет и практически находит в своей книге социолог Велько Вуячич, профессор Оберлин-колледжа и бывший проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Структурно книга представляет собой сравнительное жизнеописание двух наций — их зарождения, кризисных и героических эпох, нынешнего состояния. На такой плутарховской форме держится целостный сюжет — довольно редкое явление для строгих научных исследований.
Однако смеем предположить, что подобный метод нужен автору не только ради увлекательного сюжета, но и по досадным политическим соображениям. Все-таки книга посвящена Сербии, и определенная публика заведомо предвзято отнесется к ней, лишь увидев южнославянскую фамилию автора. Разговор не об одном, а о нескольких обществах позволяет по возможности дистанцироваться от каждого из них, как того когда-то требовали, например, стандарты объективной журналистики. Впрочем, подлость столь сложных и горячих вопросов в том, что даже объективность может стать поводом для обвинений в пропаганде. Ну да оставим подобные обвинения на совести тех, кто их предъявляет, и перейдем наконец к самой книге и ее ключевым идеям.
Косово је Србија!
Небольшой клочок земли на Балканском полуострове, именуемый Косово, сыграл катастрофическую роль в истории всей Европы. 28 июня 1914 года, в годовщину битвы на Косовом поле, студент Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Фердинанда. В 1987 году именно здесь будущий президент Слободан Милошевич обратился к притесняемому сербскому меньшинству со словами: «Никто не смеет вас бить!» А на стыке двух тысячелетий Косово вновь стало кровавым центром притяжения, став поводом для агрессии НАТО и беспрецедентного признания квазигосударственного образования во главе с, мягко говоря, неоднозначными полевыми командирами.
Начался Косовский миф в 1389 году с уже упомянутой битвы между войском князя Лазаря и османскими захватчиками. Сражение завершилось разгромом сербов и означало конец сербской государственности. Человеку из иной — допустим, русской — культуры покажется странным, что фундаментом национального самосознания стала история поражения. Русская идентичность строится на великих победах: Ледовое побоище, Куликово поле, Бородино, Сталинград и так далее. Едва ли мы встретим русского патриота в футболке «Аустерлиц 1805», а вот аналогичная символика с надписью «Косово — сердце Сербии» более чем распространена.
Анализируя миф, Велько Вуячич выделяет в нем две основные сущности: религиозную и светскую. Первая составляющая строится вокруг образа святого Лазаря Хребеляновича, принявшего вместе со своим войском мученическую смерть за христианскую веру. В сербской мифопоэтической вселенной Лазарь стал символом борьбы с глобальным злом, персонифицированным в армии мусульман, не только убивающих православных, но и стремящихся обратить их в свою религию. Со временем фигура князя приобрела еще более глубинное значение, став образом человека, выбирающего между жизнью и смертью. Но не в обыденном смысле, а в возвышенном, небесном. В качестве примера Вуячич приводит такие чудесные строки из Косовского цикла:
Лазарь царь, честной владыка сербов,
Выбирай, какое хочешь царство:
Предпочтешь ли ты земное царство
Или царство вечное на небе?
Если любишь ты земное царство,
Подтяните у коней подпруги,
Опояшьтесь саблями стальными,
Нападите на табор турецкий,
И погибнет в битве войско турок.
Предпочтешь ли небесное царство,
Ты воздвигни в Косове церковь,
Мрамора не положи в основу,
Только чистый шелк и багряницу.
Причастися с войском в этой церкви.
И твое погибнет войско в битве.
Какой выбор сделал Лазарь, прекрасно известно. И из этого выбора выросла идея уникальной жертвенности сербского народа, готового отдать жизнь в противостоянии с несопоставимо большими силами противника.
Светская же часть Косовского мифа выражена в подвиге витязя Милоша, смертельно ранившего султана Мурада. Здесь комментарии излишни: героическому поступку всегда необходима персонификация, пусть даже носителем этого поступка будет личность легендарная.
Чтобы понять удивительную живучесть Косовского мифа, дошедшего до наших дней через столетия имперского гнета, Вуячич с осторожностью (возможно, даже излишней) обращается к Мирче Элиаде и теории мифомоторов Джона Армстронга.
Согласно Элиаде, миф — это жест, находящийся вне профанного времени и обладающий важным качеством: повторяемостью. Столетия спустя этот жест был «повторен» борцами за свободу Сербии от ига, солдатами, павшими на полях Балканских войн и Первой мировой. В середине ХХ века иконостас мучеников дополнили собой коммунисты, вполне сознательно включившие в этот миф партизанов Тито, выступивших против двух страшных врагов — внешнего и внутреннего.
И тут мы подходим к самому важному моменту, который поможет понять Косовский миф и его значение для сербского национализма. В «исходнике» мифа все завершилось утратой сербского государства. В его все новых и новых воплощениях история завершилась возрождением государства в виде Югославии. И сербы чувствуют, что именно они принесли наибольшую жертву среди всех населивших ее народов. Для сербского националиста государство превыше всего, включая, как ни странно, интересы его народа. Нам, знающим другую националистическую традицию, эта логика может показаться непривычной, если не абсурдной. Но все становится предельно ясным благодаря словам историка Драгослава Страньяковича, которые приводит Вуячич:
«Режимы приходят и уходят, а государство необходимо сохранять. Серб будет бороться с режимом, который ему не нравится, но станет печься о том, чтобы не задеть авторитета и целостности государства».
 Евгений Халдей
Евгений Халдей
Флаги СССР и Югославии над городом. 1945 год
Этот нерв сербского самосознания очень хорошо прочувствовали, например, нацисты. Весной 1941 года по Югославии прокатились антиправительственные демонстрации против пакта с Германией, которые завершились государственным переворотом. За неповиновение сербы были наказаны физически и символически: сперва массированной бомбардировкой Белграда, затем разделом государства между странами Оси. Сербия, у которой в том числе отняли Косово, вернулась к условным границам, установленным до Балканских войн.
«Все это было призвано сообщить, что Сербии не позволят оказать то же сопротивление, которое она оказала многократно превосходящей ее по силам австро-венгерской армии по ходу Первой мировой войны. Даже к коллаборационистской администрации генерала Милана Недича относились с подозрением».
Русские, вперед!
Диаметрально противоположные отношения между нацией и государством сложились в России.
Зарождение русского национализма профессор Вуячич относит к Смутному времени, когда «новый коллективный опыт „народа” (а на деле — среднего слоя общества), который сражался с врагом под предводительством служилого дворянина Дмитрия Пожарского, купца Кузьмы Минина и православной церкви, нашел символическое религиозное выражение в понятии „Святая Русь”, отделенном от личности государя. Это понятие, возникшее еще до Смутного времени, после него, судя по всему, получило новые коннотации. В новом значении понятие „Святая Русь” подразумевало под собой то, что существует православная общность, которая признает над собой государя, однако искать спасения в вере может без посредства чиновничества».
Идею Святой Руси несли на себе русские крестьяне. И вместе с ней они несли иго крепостного права, от которого были избавлены многие «порабощенные» народы. Точкой невозврата в этих не очень здоровых отношениях стали петровские реформы, посеявшие среди народа поистине апокалиптические страхи. В таком антигосударственническом виде русская национальная идея закрепится в самых разных политических лагерях — от консервативных до крайне левых и революционных.
Государство долгое время довольно безуспешно пыталось присвоить себе национализм. Первую попытку создания официального национализма предприняли, судя по всему, при Николае I. Выражен он был в знаменитой формуле «Православие, самодержавие, народность». «Народность» в этом триединстве означает вовсе не «близость к народу», как можно подумать, а «национальность».
Не приемля ни этнический и религиозный национализм славянофилов, ни гражданский национализм либералов-западников, государство стремилось построить русскую идентичность на якобы традиционном для нас единстве царя и народа. «Что касается простых людей, то они служили воплощением Святой Руси, только пока оставались верными официальной церкви» и «повиновались монарху как его преданные солдаты». История в таком разрезе преподносилась исключительно как последовательность достижений русских самодержцев.
И весьма показательно, что в манифестах народовольцев, вопреки учению Маркса, первейшей задачей было заявлено уничтожение самодержавия, и уже потом — борьба с капиталистами. Как видим, вплоть до Октябрьской революции русский горизонтальный национализм оказывал влияние даже на те круги, на которые влиять не должен был по определению.
Удивительным образом национализм был частью риторики даже самых радикальных среди большевиков. Так, Вуячич вспоминает слова Троцкого о том, что «варвар Петр был национальнее всего бородатого и разуренного прошлого» со «святой Русью, с иконами и тараканами». На деле это лишь леворадикальный парафраз статьи Белинского о Пушкине, в которой неистовый Виссарион проводит различие между «народным» и «национальным», делая западнический выбор в пользу последнего.
Разумеется, формально партией был объявлен отказ от «великорусского шовинизма», большевики задали курс на строительство новой идентичности — советской. Которой все равно суждено было стать советско-русской.
И здесь история нашей официальной идеологии совершает головокружительный финт, последствия которого мы наблюдаем до сих пор. Либеральный читатель наверняка не раз испытывал вместе с нами когнитивный диссонанс, когда видел митинги коммунистов, стоявших под красными стягами, держа в руках православные иконы вперемешку с портретами Сталина. Подобное мышление кажется шизофреническим — ведь как одни и те же люди могут исповедовать православие и поклоняться тому, кто массово уничтожал верующих и их святыни?
Однако, если присмотреться, в этой крайне болезненной двойственности нет никакого противоречия. С приходом Сталина к власти началось новое национальное строительство, в котором нашлось место и «традиционным ценностям», выраженным как в масштабной русификации республик, так и в символических «мелочах» вроде возвращения погон на воинской форме или первых двух строках сталинского гимна СССР. Все это было сделано для инкорпорации в новое государство и новую идентичность максимально широких слоев населения. А идеологически возврат к «традиции» объяснялся тем, что «святая Русь, иконы и тараканы», так раздражавшие Троцкого, более не представляли угрозу для рабочего класса. Старая форма была наполнена новым (порой — абсолютно пустым) содержанием. Главным же стержнем советско-русской идеологии стали общенародные подвиги, к которым относили не только не подлежащий сомнению подвиг советских солдат Великой Отечественной войны, но и, например, коллективизацию.
Однако далеко не все верно поняли новые установки партийного руководства. Вуячич, к примеру, напоминает о судьбе национал-большевика Николая Устрялова, который защищал «непролетарский рабочий класс» (то есть крестьян): он был объявлен врагом народа и расстрелян в 1937 году, «когда террор достиг своего пика и великий русский народ явился во всей своей славе в официальной пропаганде и учебниках истории».
Для националистов (как русских, так и периферийных) государство осталось «палачом народа», а Москва — имперским центром. Поэтому и не оказался неожиданным сложившийся вокруг фигуры Ельцина союз между демократами и националистами. Чаяния последних в период распада СССР, наверное, нагляднее всего демонстрируют известные слова Солженицына:
«Великая ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, но величием поступков. И глубиною вспашки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят».
Ортодоксальный русский национализм не был имперским. Более того, националисты испытывали четкий ресентимент как представители народа изначально угнетенного и репрессированного имперским государством. Которое ко всему прочему нещадно эксплуатировало экономические богатства России, распределяя их между братскими республиками.
Нико не сме да вас бије!
Сербский национализм, напротив, всегда имел четко выраженных врагов и обиды — порой реальные, порой — надуманные. Осознавая героический образ жизни как характерную черту своего народа, сербы все же помнили, какой кровью им досталось государство. Правда, иногда элиты искренне не понимали, почему эти же чувства не разделяют другие народы.
Характерный пример — то, как Югославия получила свое имя. Со дня провозглашения независимости до переворота 1929 года страна называлась Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Давая государству новое имя, сербские элиты, как им казалось, пожертвовали своим самоназванием ради общей цели — единства. Хорватские же националисты, напротив, и в этом жесте усмотрели проявление «великосербского шовинизма».
Нет смысла напоминать, какую ужасную форму сербо-хорватское противостояние приобрело во время Второй мировой войны. Обратим лишь внимание на то, как, если верить предельно ясному и красноречивому описанию Вуячича, опыт геноцида встроился в коллективную память югославского народа:
«Невероятная жестокость усташей была представлена без прикрас в мемориальном парке Ясеновац, куда детей — и сербов, и хорватов, в их числе был и автор этой книги — приводили на обязательные школьные экскурсии, целью которых было сформировать политическую лояльность правившему тогда режиму Тито. В этом смысле никто не скрывал преступления усташей, в отличие от массовых казней партизанами свыше сорока тысяч беженцев, в основном хорватов, боснийских мусульман и словенцев [...]. В результате Ясеновац стал символом неоднозначной памяти, а не национального примирения: для сербов это „югославский Освенцим” и „метонимическое обозначение всей кампании усташей по уничтожению сербов в Хорватии”; для достаточно многих хорватов [...] это скорбное место превратилось в инструмент для манипулирования символами, используемый для того, чтобы вызвать у всей нации коллективное чувство вины за преступления, совершенные экстремистским меньшинством, и навеки подчинить Хорватию „Белграду”».
 Коммунистическое руководство, разумеется, стремилось всеми возможными путями, в том числе через федерализацию (предельно реальную, а не формальную, как в СССР), сохранить шаткое единство народов, объединенных под триколором с красной звездой. В процессе раздела федерации на республики югославское руководство допустило множество теперь уже ставших явными ошибок. Так, Косово и Метохии предоставили автономию, чтобы инкорпорировать албанское меньшинство. Однако сербы, проживавшие в Хорватии, таких привилегий не получили. В результате конституционных реформ Сербия оказалась в «аномальном положении», как описывает ситуацию Вуячич. Каждая из республик и автономий, входивших в государство, получила по 12,5 % голосов. При этом сербы составляли целых 40 % от всего населения Югославии. Из них 42 % по сути оказались вне сербской юрисдикции и, по сути, лишились полноценного представительства. (Справедливости ради заметим, что в качестве своеобразной компенсации этническим сербам «подарили» множество высоких должностей в федеральных органах).
Коммунистическое руководство, разумеется, стремилось всеми возможными путями, в том числе через федерализацию (предельно реальную, а не формальную, как в СССР), сохранить шаткое единство народов, объединенных под триколором с красной звездой. В процессе раздела федерации на республики югославское руководство допустило множество теперь уже ставших явными ошибок. Так, Косово и Метохии предоставили автономию, чтобы инкорпорировать албанское меньшинство. Однако сербы, проживавшие в Хорватии, таких привилегий не получили. В результате конституционных реформ Сербия оказалась в «аномальном положении», как описывает ситуацию Вуячич. Каждая из республик и автономий, входивших в государство, получила по 12,5 % голосов. При этом сербы составляли целых 40 % от всего населения Югославии. Из них 42 % по сути оказались вне сербской юрисдикции и, по сути, лишились полноценного представительства. (Справедливости ради заметим, что в качестве своеобразной компенсации этническим сербам «подарили» множество высоких должностей в федеральных органах).
Апогей этой национальной обиды пришелся на 1980-е, когда притеснения сербов в Косово начали носить открытый характер. Тогда и возникла фигура Слободана Милошевича, давшего местным жителям то, что не могли дать чиновники с партбилетами, — веру в свою правоту и, в конце концов, достоинство.
Далее последовали жесточайший конституционный кризис, череда войн, одна кровавее другой, распад государства, трибунал и обвинения в преступлениях, которые, как казалось, невозможны в Европе конца ХХ века.
Наши МиГи сядут в Риге!
Стройная картина, созданная Велько Вуячичем на четырехстах страницах, едва не рассыпалась в марте 2014 года, когда ученый уже завершал свой труд (впервые «Национализм...» был выпущен издательством Кембриджского университета в 2015 году), а в Крыму проходил референдум о статусе полуострова.
Поэтому автор не мог не сочинить послесловие, основой которого стал анализ «Крымской речи» Путина, произнесенной 18 марта. На нескольких страницах Вуячич крайне проницательно разбирает риторику российского президента и целый ряд месседжей, заложенных в этой речи. Однако, по мнению Вуячича, в этой по-своему совершенной речи националиста-государственника ведущей силой все равно является имперский ресентимент:
«Несмотря на призывы Путина к здравому смыслу и его рациональную аргументацию, основным чувством, на котором они основаны, явственно остается чувство национального унижения».
Тезис, на наш взгляд, если не спорный, то чрезмерно упрощающий ситуацию, в которой во время и после того эксцесса оказались как минимум две постсоветские страны.
Впрочем, и без крымского кризиса и последующего конфликта в Донбассе вопросов к книге было бы немало. Будем честны, профессор, говоря о «малой крови», которой отделался СССР, ради общей теории обходит стороной как минимум кавказские войны России или, например, гражданскую войну в Таджикистане, по размаху и ужасу сопоставимую с югославской. И если на Таджикистан можно закрыть в данном случае закрыть глаза как на конфликт, не имеющий прямого отношения к русскому национализму, то чеченские войны, во-первых, носили ярко выраженный национальный характер (защита русского населения была одной из официальных причин силового решения Москвы), во-вторых — борьба с кавказским сепаратизмом стала следствием парада суверенитетов, получившего в какой-то момент характер выборочный. Если проводить параллели с Югославией, то чем русские в Чечне не косовские сербы? Или чем Грозный не Вуковар?
Но главные вопросы все равно стоит обращать не к книге, заслуживающей, несмотря на все недочеты, самой высокой оценки, а к самим себе. Что такого случилось за 23 года, прошедшие между распадом СССР и крымским референдумом; что сделало фразу «Мы все вернем назад» легитимным лозунгом, а не постмодернистским девизом имперских радикалов, эстетствующих панков и исследователей археомодерна? Правильный ответ на этот вопрос мы не знаем, но чувствуем: он намного сложнее тех, что первым делом приходят на ум.
Будьте бдительны.