«Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи»
Рецензия на книгу Сергея Радлова «БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст»
Сергей Радлов. БДТ в 1920-е: Игра. Судьба. Контекст. СПб.: БДТ им. Г. А. Товстоногова, 2019
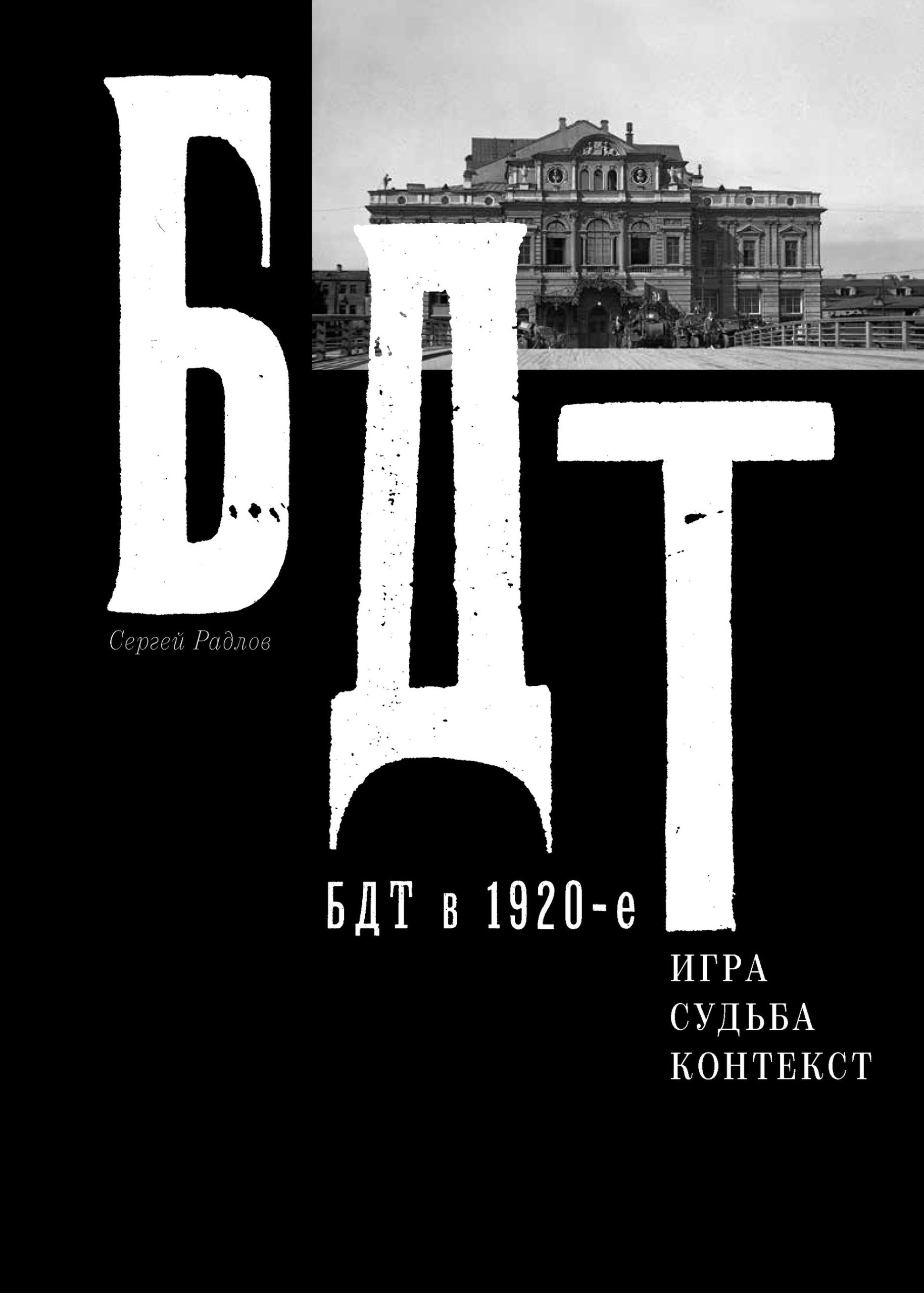 Книга Сергея Радлова приурочена к 100-летнему юбилею прославленного театра. И одновременно она переосмысляет его судьбу. Оказывается, эпоха Георгия Товстоногова, возглавлявшего БДТ с 1955-го до своей смерти в 1989 году и создавшего уникальную труппу, не была единственно ценной в истории театра.
Книга Сергея Радлова приурочена к 100-летнему юбилею прославленного театра. И одновременно она переосмысляет его судьбу. Оказывается, эпоха Георгия Товстоногова, возглавлявшего БДТ с 1955-го до своей смерти в 1989 году и создавшего уникальную труппу, не была единственно ценной в истории театра.
Слава товстоноговского театра бросала и бросает вызов всякому, кто приходит сюда. Нынешний худрук театра Андрей Могучий был создателем и режиссером такого радикального явления 90-х годов, как «Формальный театр», а став режиссером Александринки, продолжал сочинять спектакли в эстетическом регистре, совсем не похожем на тот, в котором пытались существовать продолжатели дела Товстоногова. Потому его приход в БДТ был принят далеко не всеми, кто дорожил шедеврами психологического театра великого Гоги. Любопытно, как они встретят юбилейное издание, посвященное 1920-м годам.
Конечно, люди, хорошо знакомые со столетней судьбой театра, знают о великолепных постановщиках, художниках, актерах и драматургах, работавших в этом театре в те годы — пока кто-то не покинул страну, не умер, не был арестован или расстрелян. Но именно в первое десятилетие своей истории БДТ был преисполнен самых разнообразных, и прежде всего формальных, поисков, прошел через увлечение экспрессионистской образностью, конструктивистскими аттракционами, возносил художника над иными уровнями сценической вселенной. Словом, «БДТ в 1920-е» служит хорошим напоминанием о раннем периоде театра, имевшем совсем иные свойства, чем те, что позже синтезировал Товстоногов.
Андрею Могучему также принадлежала идея заказать книгу Сергею Радлову, который — используем политический термин в разговоре об эстетике — существенно демократизировал взгляд, отринул привычные или просто удобные иерархические связи, пронизывающие традиционное театроведение. Его рассказ, с присущей ему особой интонацией, направляет читательский интерес не только в 20-е годы, но и в иные времена и пространства — в будущее и прошлое петроградского/ленинградского/петербургского периодов театра или к художникам иных стран.
Эрудиция Сергея Радлова, режиссера по образованию, драматурга, автора сценариев (в частности, «Ушебти» о блокадном Ленинграде), обширного комментария к «Сонетам» и других работ о творчестве Шекспира, превращает каждую главу книги в увлекательное путешествие к параллельным культурным мирам, позволяет увидеть знаменитые и забытые спектакли в неожиданной перспективе. Порой не сам спектакль, но какое-то одно обстоятельство его жизни становится отправной точкой путешествия, способное привести читателя к новым местам и познаниям.
Вот, к примеру, рассказ про «Сэра Джона Фальстафа» (1927). Как и все в этой книге, он построен как симультанная средневековая сцена или, если угодно, монтаж аттракционов. Карточка-афишка с именами постановочной группы; фотографии — общие планы и портреты; эскизы декораций и костюмов Николая Акимова; размышления о парадоксе восприятия шекспировских пьес, и по сей день яростно охраняющихся ревнителями «традиций», в то время как «постановки, в которых авторский текст остается неприкосновенным, весьма редки, и говорить о них как о традиции нет оснований»; отсылки к пьесе Нейема Тейта «Король Лир» (1681), где Лир не умирал, и к режиссерским эскападам Федора Комиссаржевского, чей Фальстаф в Стратфорде-на-Эйвоне напоминал императора Франца Иосифа I.
1/4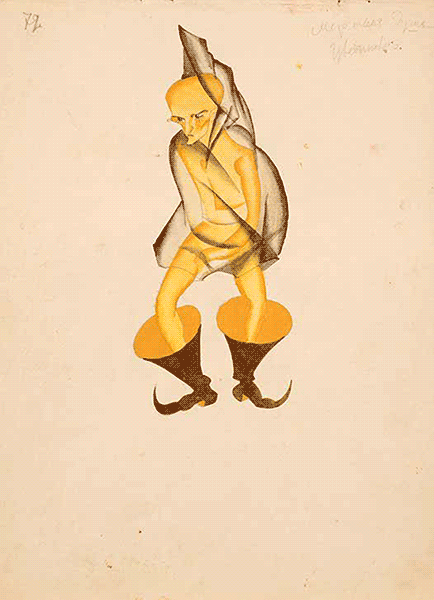 «Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма Мертвой души Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 2/4
«Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма Мертвой души Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 2/4 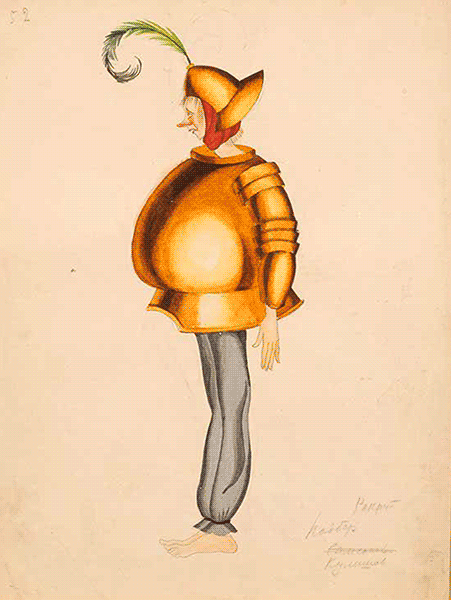 «Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма Рекрута Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 3/4
«Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма Рекрута Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 3/4  «Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма судьи Шеллоу Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 4/4
«Сэр Джон Фальстаф». Эскиз костюма судьи Шеллоу Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 4/4  «Сэр Джон Фальстаф». Принц Гарри — Лев Кровицкий Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
«Сэр Джон Фальстаф». Принц Гарри — Лев Кровицкий Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Наконец, читателю предлагают вернуться к «Фальстафу» БДТ в постановке Павла Вейсбрема и Исаака Кролля. И тут — вновь «перформативный поворот»: автор спокойно вступает в спор с рецензентами 1927 года, не выдавшими спектаклю мандат на верность Шекспиру. Ему дают на это право утонченное воображение и основательная подготовка. Предложения режиссеров не кажутся ему такими уж нелепыми.
Следующим пазлом в этом «монтаже» текстов является большой фрагмент статьи известного ленинградского театроведа А. А. Гвоздева, доказывающего, казалось бы, «закономерный крах изначально выморочной идеи» соединить в одном спектакле несколько сцен из разных шекспировских пьес. Однако, продолжает Радлов, этот фрагмент завершается неожиданным упоминанием совсем другого спектакля: «Еще печальнее итоги постановки „Ревизора”, предпринятой режиссером Терентьевым в новом Театре Дома Печати». Такая оценка спектакля 1927 года, вошедшего в пантеон советского авангарда, ретроспективно дезавуирует и отношение Гвоздева к «Фальстафу».
В сущности, здесь реализует себя беньяминовская мысль об истории, которую пишут победители, исключая из победоносного шествия объявленные маргинальными сюжеты. «Они никогда не бывают документами культуры, не будучи одновременно документами варварства. И как они сами не свободны от варварства, так не свободен и процесс передачи традиции, в ходе которого они переходят из рук в руки». Кажется, автор книги о БДТ в 20-х мог бы согласиться с принципом Вальтера Беньямина «гладить историю против шерсти».
Не только буквально, физически исключенные деятели этого театра (умерший в голодном Петрограде Александр Блок, лишенный работы и умерший в нужде Михаил Кузмин, уехавшие Юрий Анненский, Александр Бенуа, Евгений Замятин, расстрелянные Рувим Шапиро, Константин Тверской), но и неосуществленные замыслы изменили историю русского советского театра. Сегодня все чаще появляются работы, перенаправляющие научный взгляд, выстраивающие новые иерархические связи, позволяющие предположить, как могла бы сложиться его история. Но редко когда решение такой задачи уживается с литературной одаренностью автора, увлекательностью рассказа.

Рувим Шапиро (слева) и Константин Тверской (справа)
Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
Главы в этой книге чем-то похожи на развернутые комментарии к письменным памятникам, которые уже невозможно «прочитать». Но что из того? Мы можем передать контекст и обстоятельства их бытования. Так, собственно, и устроена вся книга, сочиненная и разыгранная на основе известных, а то и впервые опубликованных документов, фактов, имен. Включаясь таким образом в дискуссию почти столетней давности, Радлов совершает свой собственный «перформативный поворот», заодно превращая документальную книгу в факт словесности.
Еще несколько важных замечаний об устройстве книги. Ее жанр автор назвал «театральным альбомом». Выбрав на свой, как вы уже заметили, вполне просвещенный вкус 27 очень разных сюжетов, не деля их на более и менее значительные (здесь кроме спектаклей — поставленных и (sic!) неосуществленных — чествование Александра Блока и юбилейный вечер премьера труппы Владимира Монахова), Радлов даже начинает книгу... не с начала.
Не с «Дон Карлоса», которым, собственно, и открылся БДТ в 1919 году, а с «Короля Лира», первой премьеры в здании на Фонтанке, 65, известном прежде как Театр Суворина, а позже — как Малый. Причем, говоря про шекспировскую трагедию, поставленную Андреем Лаврентьевым в декорациях Мстислава Добужинского, он останавливается на деталях, ранее не попадавших в поле театроведческих исследований. Нерв времени виден в том, как Добужинский, художник городской, реализовал жестокое равнодушие природы к людям (а в этом заключена во многом тема шекспировской трагедии) через отдаленные параллели с образом любимого Петербурга, умиравшего «смертью необычайной красоты». «Побежден естественный ход жизни, природа оказалась задавленной, вытесненной человеком воюющим и его смертоносными игрушками».
Напомнит нам автор книги и о том, что премьера состоялась в двухлетнюю годовщину Красного террора, и приведенная цитата из дневника Евгения Замятина станет отсветом реальной жизни театра в истекающем кровью, холодном и голодном Петрограде:
«На одной из таких последних ночных репетиций — вдруг стало невмочь и решили выбросить сцену с вырыванием глаз у Глостера. Помню, Блок был за то, чтобы глаза вырывать:
— Наше время — тот же самый XVI век... Мы отлично можем смотреть самые жестокие вещи...»
Еще любопытней будет узнать, что редактировали средний перевод Александра Дружинина два выдающихся художника слова — Александр Блок и Евгений Замятин, — сделав все, «чтобы „Лир” говорил шекспировским, а не абстрактно-поэтическим языком и жил в реальном времени воюющей с собственным народом страны».
 Слуга в гостинице —
Слуга в гостинице —Ефим Копелян. 1930-е годы
Привычный логоцентричный рассказ в книге Сергея Радлова занимает важное, но не самое главное место. Тот или иной спектакль, как уже говорилось, воссоздается с помощью нескольких уровней повествования. Листая альбом, читатель-зритель может наткнуться, например, на фотографию Ефима Копеляна и узнать о том, что один из главных актеров товстоноговского БДТ играл в легендарном спектакле «Слуга двух господ», поставленном и оформленном Александром Бенуа.
Яркие выразительные лица наполняют альбом: роскошные портреты Моисея Наппельбаума — Михаил Кузмин и Клеопатра Каратыгина, старейшая актриса театра, в 1928 году обратившаяся к репродуктору на репетиции «Человека с портфелем»: «Прошу вас немедленно замолчать. Вы мне мешаете». Сосредоточенное лицо у заведующего литературной частью театра Адриана Пиотровского. Строгое, энергичное — у юной художницы и сценографа Валентины Ходасевич, племянницы поэта, оформившей в БДТ «Обращение капитана Брасбаунда» Бернарда Шоу (1923). Николай Акимов рядом с макетом так и непоставленной пьесы «Атилла» Евгения Замятина, и рядом — совсем молодой режиссер Борис Зон, после запрета пьесы в 1928 году не вернувшийся в БДТ, на сцену которого спустя несколько десятилетий выйдут его ученики: Зинаида Шарко, Эмма Попова, Николай Трофимов, Алиса Фрейндлих, Наталья Тенякова.
А вот в эссе о неосуществленной постановке пьесы Василия Каменского «Патриарх Тихон», обнаруженной автором книги в РГАЛИ, есть всего лишь один портрет — директора театра Рувима Шапиро, который после смерти патриарха в 1925 году отважился заказать поэту-футуристу пьесу с таким названием. К финалу статьи мы узнаем, что в 1936 году он, уже директор Театра оперы и балета имени Кирова, будет арестован за участие в троцкистско-зиновьевской террористической организации и на все вопросы, в том числе о постановщике «Заговора чувств» и «Трех толстяков» Константине Тверском, будет отвечать: «Нет, я отрицаю». Свои дни он окончит на Колыме — расстрелян там в 1938 году.
Мы видим и коллективные портреты, в которых бережно восстановлены фамилии бутафоров, гримеров, технических работников. И конечно, небывалые в своих творческих дерзаниях эскизы и пространственные образы выдающихся художников — Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Юрия Анненского, Бориса Кустодиева, Николая Акимова, Моисея Левина, Владимира Щуко. Когда на тебя смотрит поразительная «мраморная нимфа» Марина Мнишек в эскизе Кузьмы Петрова-Водкина, можно только горько вздохнуть о так никогда не появившемся на свет в 1928 году «Борисе Годунове». А заодно — воссоздать хотя бы в воображении образ театра, в репертуаре которого жили бы все эти не осуществленные по цензурным мотивам спектакли.
1/4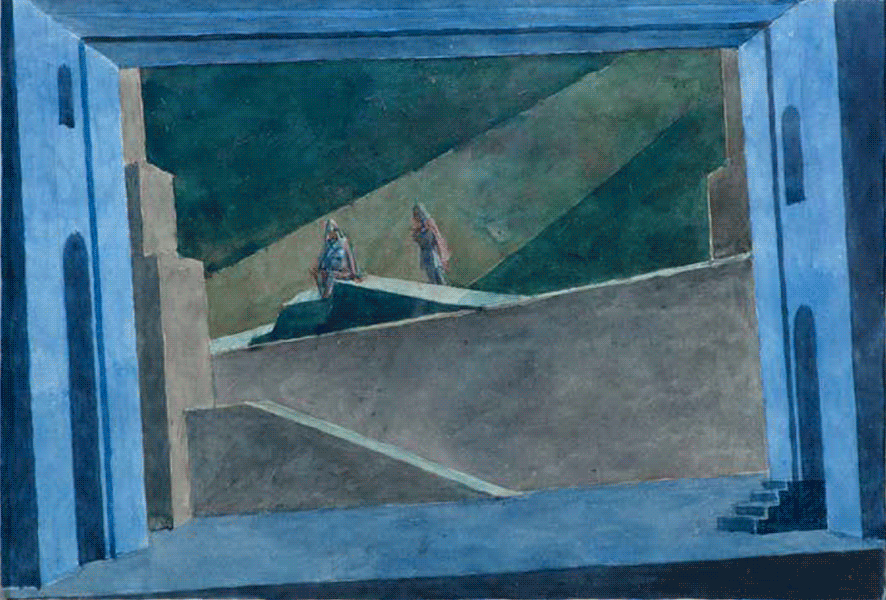 «Борис Годунов». Эскизы декораций Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 2/4
«Борис Годунов». Эскизы декораций Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 2/4  «Борис Годунов». Эскизы декораций Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 3/4
«Борис Годунов». Эскизы декораций Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 3/4 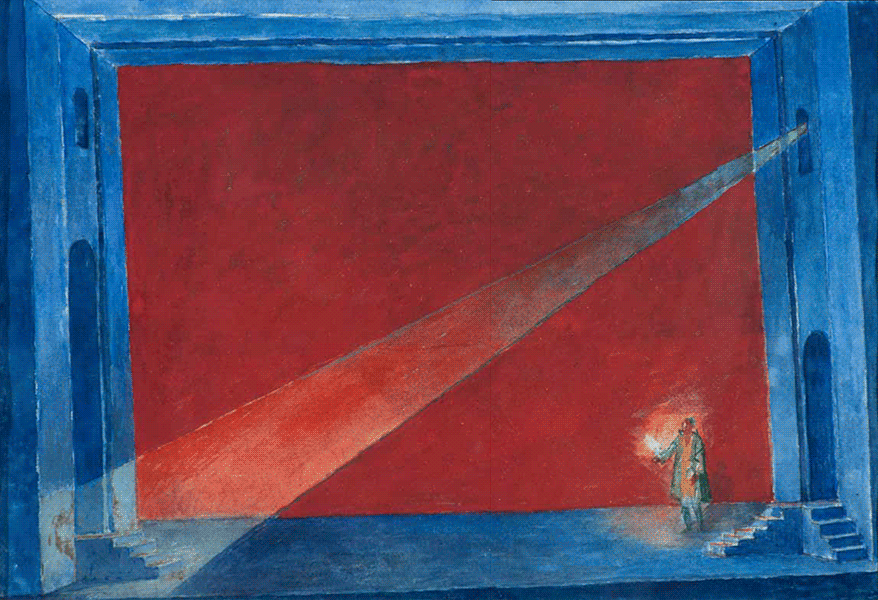 «Борис Годунов». Эскизы декораций 4/4
«Борис Годунов». Эскизы декораций 4/4  «Борис Годунов». Марина Мнишек Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова
«Борис Годунов». Марина Мнишек Фото: Архив Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Книга заканчивается большим эссе о «Заговоре чувств», чья премьера состоялась в самом конце зловещего 1929 года, года «великого перелома» и конца НЭПа.
Спектакль по пьесе Юрия Олеши был наполнен множеством остроумных и новаторских решений, которыми был славен БДТ 20-х годов. Рассказ о нем, вместивший в себя самый разнообразный материал — от спора Бориса Парамонова и Александра Гениса о том, как колбасник оказался положительным героем, до пронзительно-жертвенного взгляда режиссера спектакля Константина Тверского (Кузьмина-Караваева), будто прозревающего с фотографии 20-х свой арест и расстрел в 1937 году, — завершается упоминанием о том, что еще одной пьесе Олеши, «Списку благодеяний», не суждено было предстать перед публикой в 1931 году.
К блестящим визуальным решениям книги (дизайнеры Митя Харшак, Иван Смирнов, Любовь Котлярова, фотограф Валентин Блох) можно отнести и то, как в ней обыграна последняя ремарка суфлерского экземпляра пьесы, придуманная, правда, не драматургом, а режиссером: «В зрительный зал летит мяч». Вместе с тем, это будет и финал книги. Последнее, что увидит читатель/зритель этого перформативного книжного проекта, когда перевернет страницу «Заговора чувств», будет футболист, посылающий мяч в зрительный зал БДТ 1920-х годов. А рядом с этим прекрасным фотомонтажом стоит цитата из Вадима Руднева: «...Время есть четвертое измерение, и, стало быть, по нему можно передвигаться как по пространству. Действительный мир не занимает привилегированного положения».
В сущности, книга «БДТ в 1920-е» и есть прекрасная иллюстрация этой мысли, открывающая, а для историков театра — восполняющая, исчезнувший навсегда мир. В этом есть непроявленный, но ощутимый вызов по отношению к доминирующему историческому описанию. Слова Руднева отчетливо перекликаются с идеями Беньямина, для которого незавершенное прошлое всегда может прорваться в настоящее время.