Мы никогда не были ни чистыми, ни мертвыми, ни голыми
Что перечитать на этой неделе, пока хороших новых книг не издают
Ликвидация разрыва между природой и культурой как залог спасения планеты, массовые беспорядки в СССР как форма диалога с властью, мифологизированная биография Филипа Дика, Дахау как итог любых благих начинаний властей, а также подростковая любовь в Техасе: пользуясь моментом, когда приличные издательства жадничают выпускать нечто стоящее и ждут так называемых лучших времен, мы решили заглянуть во тьму своих книжных шкафов. Открывшаяся картина напоминала циклопический город с мало того что невиданной — невообразимой архитектурой, где обширные скопления книжных корешков являли чудовищное надругательство над законами геометрии, гротескные крайности мрачной фантазии. Книги, которые взывали, требовали себя перечитать, сразу бросились в глаза. Как всегда по пятницам, отгоняя кошмары, список составил Иван Напреенко.
Владимир Козлов. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953–1985 гг. М.: Олма-пресс, 2006
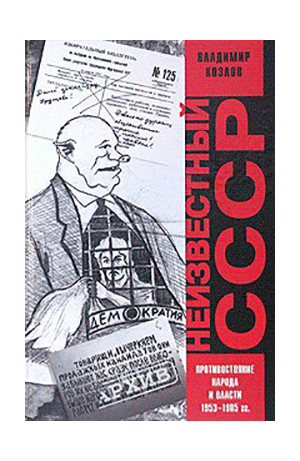 Мощный советский и российский историк Владимир Козлов анализирует болезненную тему, о которой мало говорят: массовые беспорядки позднесталинской и хрущевской эпохи, неизменно заканчивавшиеся кровью и лютыми сроками.
Мощный советский и российский историк Владимир Козлов анализирует болезненную тему, о которой мало говорят: массовые беспорядки позднесталинской и хрущевской эпохи, неизменно заканчивавшиеся кровью и лютыми сроками.
Козлов начинает с волнений «особых» лагерей, с повышенным содержанием политзэков в 1953–1954 гг., — Горного, Речного и Степного. Переключается на «хулиганскую болезнь», когда граждане присоединялись к нападениям гопников на милицию в Новороссийске, Херсоне, Клайпеде, Енакиево и др. в 1956-м. Разбирает массовые беспорядки молодых рабочих в Темиртау в 1959 году и динамику солдатских волнений на протяжении всех 1950-х. Пристально фиксируется на Кемеровской стачке 1955 года, политических волнениях в Грузии после XX съезда КПСС в 1956-м, волнениях в Грозном 1958-го, ингушском погроме в Джетыгаре в 1960-м, стихийных выступлених верующих против закрытия монастырей и церквей в 1959–1960 гг., беспорядках в Краснодаре, Муроме, Александрове и Бийске в 1961-м. Кровавым «антивенцом» повествования становятся события в Новочеркасске, многим известные как Новочеркасский расстрел 1962 года. Дальше постепенно наступает, накатывает «брежневское затишье».
Козлов 11 лет заведовал Центром изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации, и его работы снабжены доказательной базой стандарта «комар носу не подточит»; это не только убеждает, но и усиливает жуткую документальность в сухом изложении.
«Гроб с телом Степашина его товарищи понесли сами, на руках. От всех предложений похоронной комиссии завода и работников милиции везти гроб на машине участники процессии категорически отказались. В пути процессия обрастала новыми людьми. <...> Раздавались угрожающие выкрики. Наибольшую активность проявила пожилая женщина, член КПСС с 1927 г. Она же постоянно призывала идти к обкому. (...) Некоторые участники похорон возмущались и кричали: «Почему не разрешают нести гроб там, где хочется!»
Однако здесь важны не столько реконструкция событий и атмосферы, сколько исторический анализ. Козлов предлагает смотреть на затяжную, бессмысленную войну людей с властью как на особую, бесспорно ненормальную (с точки зрения многих) попытку наладить снизу механизм обратной связи с верхами. Ведь за исключением антисистемных маргинальных выступлений самых отчаявшихся, народ не метил в саму коммунистическую систему. Конфликт носил скорее внутрисистемный характер: пытались бить «плохих начальников», которые портят «хороший коммунизм».
Брежневское затишье объясняется (и это трудно принять) не тем, что власть, подобрав чудо-ключик, успокоила людей — а тем, что в 1970-е и далее редкое отчаянье прежних лет стало нормой для миллионов. Внешнее умиротворение граждан при застое, по Козлову, совсем не признак обретенного довольства. Напротив, уверен историк, народ окончательно разочаровался не только в «хорошем строе», но и в самой возможности достучаться до «начальников», пускай даже ценой чьей-то жизни. На смену вере, что где-то там есть заступники, пришли цинизм и издевка.
«Затем начался штурм входной двери. В первых рядах был 22-летний слесарь Геннадий Гончаров. Работник он был неплохой („как производственник характеризуется положительно”), но пользовался дурной славой бузотера и скандалиста. Геннадия все время „прорабатывали” на собраниях за нарушения дисциплины. В январе 1962 г. он явился на работу пьяным, матерился, избил товарища по работе, заодно попытался „надавать” и мастеру. Именно Гончаров насильно открыл дверь и ударил кулаком по голове державшему эту дверь мастеру цеха Насонову. Другие участники штурма, ворвавшись в заводоуправление, избили инженера Ершова, „ломали мебель, били стекла и телефоны, срывали портреты”.
Участники штурма едва ли воспринимали свои действия как погром. Вряд ли кто-нибудь мог ясно сказать, зачем он ломился в здание заводоуправления. Но совершенно очевидно, что лейтмотивом были не месть или хулиганство, а упорное желание заставить наконец „начальство” услышать протест народа: „Мы не хулиганим, а требуем”. (В одном из кабинетов заводоуправления нашли впоследствии бюллетень научной информации „Труд и заработная плата”, на который кто-то из забастовщиков излил свою возмущенную душу: „Вкалываешь, а ничего не получаешь”.)»
Бруно Латур. «Нового времени не было». Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. Перевод с французского Д. Калугина
 Причуды национальной рецепции: «Эссе по симметричной антропологии» стала первой книгой Латура, переведенной на русский язык, из-за чего у местного читателя в 2006 году могло и сложилось достаточно причудливое представление о французском философе и социологе.
Причуды национальной рецепции: «Эссе по симметричной антропологии» стала первой книгой Латура, переведенной на русский язык, из-за чего у местного читателя в 2006 году могло и сложилось достаточно причудливое представление о французском философе и социологе.
Например, в этом издании, вышедшем на языке оригинала в 1991 году, ни разу не упоминается акторно-сетевая теория, главный латуровский бренд, и роль материальных объектов как актантов особо плотно не обсуждается, да и признаки радикального конструктивизма отсутствуют, хотя для прилежных французских читателей было достаточно очевидно, что «Нового времени не было», потому что до этого выходили «Пастеризация Франции», «Лабораторная жизнь» и «Наука в действии». Потом, как верно отмечает редактор в предисловии, этот текст носит характер манифеста — а в манифесте аргументативные ходы прячутся и предъявляются «в готовом виде», в том числе в виде таких странных гипотетических феноменов, как Парламент вещей.
Наконец, «Эссе» во многом строится как комментарий к двум текстам социологов и философов — Люка Болтански и Лорана Тевено, а также Стива Шейпина и Саймона Шэффера, ни один из которых на момент издания «Нового времени» не был знаком российскому читателю в переводе.
В общем, для тех, кто не знал контекста, Латур представал довольно «грезёрским», но чрезвычайно интригующим персонажем, утверждавшим, что мы никогда не были нововременными, modernes, а значит, никогда не жили «в девственной природе и чистой культуре», вне сложных социотехнических сетей, где субъекты, объекты и пролиферирующие гибриды взаимозапутанны. Следовательно, задачей исследователя оказываются не бесконечные попытки по очищению культуры от природы и наоборот, а прослеживание разнонаправленных трансформаций, переходов и взаимопереводов «действующих лиц». Иначе? Нам всем, вместе с планетой, — конец.
Быть может, в пунктирном пересказе все остается запутанным, но верьте на слово: даже непонятный Латур хорошо пишет и чертовски вдохновляет (плюс — становится видно, когда он стал прилаживаться к своей экологической дуде).
«Для того чтобы говорить о нашем мире, критика разработала три различных подхода: натурализацию, социализацию и деконструкцию. Назовем лишь, даже если это будет не совсем справедливо, Шанже, Бурдьё, Деррида. Когда первый говорит о натурализованных фактах, то больше уже не существует ни общества, ни субъекта, никаких форм дискурса. Когда второй говорит о социологизированной власти, то уже нет ни науки, ни техники, ни текста, ни содержания. Когда третий говорит об эффектах истины, то верить в реальное существование нейронов мозга или властных игр было бы проявлением величайшей наивности. Каждая из этих форм критики могущественна сама по себе, но ее невозможно сочетать с двумя другими. Можно ли вообразить себе такое исследование, которое рассматривало бы озоновую дыру как нечто одновременно натурализированное, социологизированное или деконструированное? Такое исследование исходило бы из абсолютным образом установленной природы фактов, из предсказуемых стратегий власти, но в то же самое время речь в нем шла бы только о структурах смысла, создающих жалкие иллюзии природы и говорящего субъекта. Такая мешанина выглядела бы просто нелепо. Наша интеллектуальная жизнь будет сохранять свои узнаваемые формы столь же долго, сколько эпистемологи, социологи и доконструктивисты будут располагаться на положенном расстоянии друг от друга, питая свою критику слабостями двух других подходов. Возвеличивайте науки, разворачивайте игры власти, поднимайте на смех веру в реальность, но не смешивайте эти три едкие кислоты».
Эммануэль Каррэр. Филип Дик. Я жив, это вы умерли. СПб.: Амфора, 2008. Перевод с английского Е. Новожиловой
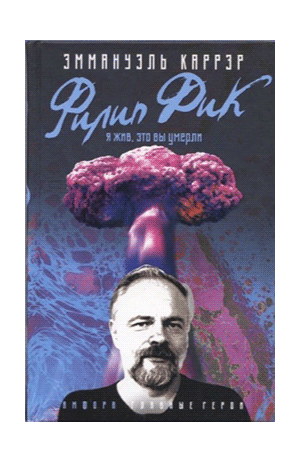 Сценарист, писатель и режиссер, бывавший в жюри Каннского фестиваля, Эммануэль Каррер известен у нас, в первую очередь, как автор двух романизированных биографий — Эдуарда Лимонова (2011) и Филипа Дика (1993). Вокруг последней сложился даже некоторый культ.
Сценарист, писатель и режиссер, бывавший в жюри Каннского фестиваля, Эммануэль Каррер известен у нас, в первую очередь, как автор двух романизированных биографий — Эдуарда Лимонова (2011) и Филипа Дика (1993). Вокруг последней сложился даже некоторый культ.
Каррер пишет в стилистике журнала «Караван историй» (до сих пор на бумаге ежемесячно выходит, толстенный). Будто он вовсе не француз с лицом лягушонка, а приметливый чертик с дипломом психфака МГУ, которому подвластно время, так что он побывал при всех сценах, залез в голову всех героев и пересказал «все-все как было», добавив пригоршню идиотских бытовых деталей (не иначе как для близости к читателю, колорита и достоверности). Выглядит это примерно так (импровизирую): «Диана готовила лазанью с базиликом, когда Дик, глядя влюбленными глазами на складки ее юбки из коричневого плюша, сказал себе: «А ведь я почти забыл, как выглядит зеленая лужайка у дома четы Смит, на которой мы так раньше любили „забить козла” летним вечером...»» и т. д. и т. п.
Что усугубляет ситуацию, так это сам перевод — сделанный, по всей видимости, с английского перевода французского оригинала. Есть подозрение, что переводчица и редактор оставили свой культурный багаж на пресловутой лужайке четы Смит. Дао дэ дзин здесь превращается в Тао то-кин, Фома в Томаса, Витгенштейн в Виттгенстайна, а некоторые люди, как «Свидригайлов у Достоевского, представляют себе вечность в виде грязной ванны, затянутой паутиной».
Роман прекрасный, несмотря на всю эту пошлость и дикие ляпы. Трудно представить лучшего персонажа для беллетризованной биографии, чем Дик, у которого главными вопросами жизни стали: это происходит в реальности? Но в какой реальности? Я — это действительно я? И кто я? Что это было: божественное откровение или, если сменить оптику описания, параноидальный психоз в развязанной форме? То есть буквально органичнейший кейс «жизни как романа», где протагонист — один из субъектов своей литературной истории, а события книг оказываются событиями жизни, стирая и без того зыбкую для Дика границу между фикцией и фактом. Фанатам писателя Каррер ничего нового не сообщает, но по существу его труд замечательно упорядочивает картину одного (и какого!) литературного безумия.
«— С вас восемь долларов сорок центов, — сказала, а, может быть, повторила девушка, протягивая Филу пакет с лекарством.
Дик порылся в кармане, достал купюру в десять долларов и спросил:
— Это украшение... что это?
— Рыба, — ответила девушка. — Символ, который использовали первые христиане.
Дик застыл на пороге с пакетом в руке, уставившись на рыбу, которая поблескивала в полумраке прихожей. Время остановилось. Он забыл о своей боли, забыл, зачем пришла сюда эта девушка и что здесь делает он сам. Тесса перестала сушить волосы и вышла в прихожую. Проследив за направлением взгляда своего мужа, она решила, что его привела в такой восторг грудь девушки. Та, увидев хозяйку, решилась наконец дать сдачу, повернулась и ушла. Тесса закрыла дверь, отпустив какую-то шутку, но Дик не услышал жену, а сама она не запомнила, о чем говорила. Так что никто, кроме Бога, если Он существует, не знает, что именно тогда было сказано.
Один из героев романа „Человек в высоком замке”, некий японский бизнесмен, созерцает украшение, созданное в соответствии с дао. И это приподнимает перед ним невидимый занавес и открывает ему доступ в реальный мир. Лишь позже Дику пришло в голову сопоставить пережитое им самим с тем, что он приписал двенадцать лет назад господину Тагоми. И писатель немедленно понял: произошло то, чего он ждал всю свою жизнь.
Момент истины. Debriefing. История болезни.
Вот, наконец, это случилось».
Джорджо Агамбен. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011. Перевод с итальянского И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова и др.
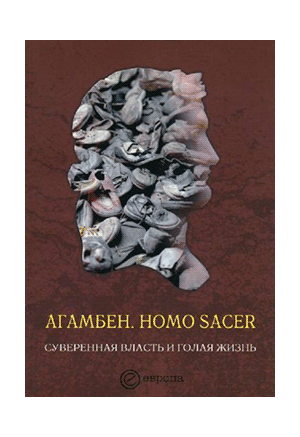 Трудно, но желательно читать книги в конгениальной обстановке: Батая — на оргиях, Лавкрафта — на заседаниях Госдумы, книгу «Хюгге. Датское искусство счастья» — в СИЗО. Такое редко, но получается.
Трудно, но желательно читать книги в конгениальной обстановке: Батая — на оргиях, Лавкрафта — на заседаниях Госдумы, книгу «Хюгге. Датское искусство счастья» — в СИЗО. Такое редко, но получается.
Первую книгу агамбеновского проекта Homo Sacer я читал, привалившись к административной избушке секретного исправительно-трудового лагеря, так называемого Мраморного ущелья, входившего в состав Борлага. Я сидел и читал в самом центре первого советского лагеря, где заключенные и вольнонаемные пытались (напрасно) добыть уран для первой советской ядерной бомбы. Дело было в 1949–1951 гг., люди круглый год долбили руду на высоте 2000–3000 метров, иногда при температуре −50 градусов, в ледяном аду забайкальских гор. Я читал «Суверенную власть и голую жизнь» именно там, но, пожалуй, язык не поворачивается сказать, что мне повезло.
Говорят, что любишь не за что-то, а просто так. В случае с итальянцем это дурацкое выражение точно не работает, только выбрать, за что же именно — трудно. За внимательный взгляд и архаическую улыбку на узком романском лице? За умение так грациозно вывернуть знакомые (и тоже любимые) ингредиенты — Фуко, Беньямин, Хайдеггер, Шмитт, — что они работают уже совсем в иной изящной и страшной конструкции? За хрупкий и последовательный радикализм мысли? За первохристианский пыл в неприятии «этого мира»?
Агамбен исходит из мысли, что власть содержит в себе нечто мистическое, поскольку так же, как язык или бытие, она началась раньше, чем началась. В результате попытки мыслить власть «позитивно» неизбежно способствуют продолжению властного проекта, где с утомительной неизбежностью возникают лично Гитлер, гедонистическое общество потребления и концлагерь, который, по Агамбену, служит биополитической парадигмой западного мира — то есть мира «исключения», где политические законы проводят границу между zoe («голой жизнью») и bios («правильной жизнью»). Над всем царит фигура шмиттовского суверена, способного вводить чрезвычайное положение, приостанавливая действие законов; и она служит точной инверсией содержания юридического римского понятия homo sacer — человеческого существа, которое может быть убито каждым, но не может быть принесено в жертву богам, то есть чистой фигуры исключенного из-под действия закона.
Что нам всем с этим делать? Агамбен, чтобы разобраться, еще двадцать лет писал книги в рамках исследовательского проекта Homo Sacer. Как следует из предпоследнего издания «в приостановленной серии», можно, например, «продумывать» жизнь и мир как то, что никогда не дается в собственность (и потому никогда «не потребляется»). Ну или как минимум дальше читать итальянца.
«Смерть помешала Фуко развить все аспекты понятия „биополитика” и показать, в каком направлении он продолжил бы исследования этой темы, но во всяком случае вход zoe в сферу polis, политизация голой жизни как таковой представляет собой решающее событие современности, знаменующее радикальную трансформацию политико-философских категорий античной мысли. Вероятно даже, что если сегодня политика, как кажется, переживает продолжительный период упадка, то это происходит именно потому, что она упустила из виду необходимость считаться с этим основополагающим событием современности. „Энигмы”, которые наш век поставил перед исторической мыслью и которые продолжают оставаться актуальными (нацизм — лишь наиболее волнующая из них), могут быть разрешены только на той же — биополитической — почве, на которой они сформировались. Только в биополитической перспективе можно будет решить, должны ли понятия, на оппозициях которых базируется современная политика (правое/левое, частное/публичное, абсолютизм/демократия и так далее) и которые, все более размываясь, попали сегодня в самую настоящую зону неразличимости, быть окончательно оставлены — или же они смогут заново обрести значение исходя из той самой перспективы, в которой они его и утратили. И только рассуждение, которое, последовав советам Фуко и Беньямина, исследовало бы отношения между голой жизнью и политикой, незримо управляющими даже самыми, казалось бы, далекими от них идеологиями современности, смогло бы пролить свет на тайну политического и вместе с тем смогло бы возвратить мысль к ее практическому призванию».
Кормак Маккарти. Кони, кони... М.: Иностранная литература, 1996. Перевод с английского С. Белова
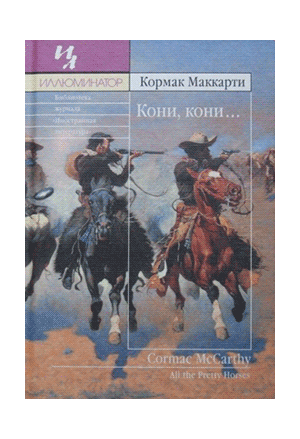 На американского писателя Кормака Маккарти меня вывело интервью ансамбля грустной тяжелой музыки Neurosis, где они признаются, что в списке их литературных пристрастий значатся Джек Лондон, Пол Боулз (о!, сказал себе я) и, собственно, автор «Коней, коней...». Чуть покопавшись еще, я обнаружил, что по сценарию Маккарти только что (на тот момент) вышел отличный фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место», а его же постапокалиптическая повесть «Дорога» недавно взяла Пулитцеровскую премию — ее экранизация тоже стала одним из моих любимых кино.
На американского писателя Кормака Маккарти меня вывело интервью ансамбля грустной тяжелой музыки Neurosis, где они признаются, что в списке их литературных пристрастий значатся Джек Лондон, Пол Боулз (о!, сказал себе я) и, собственно, автор «Коней, коней...». Чуть покопавшись еще, я обнаружил, что по сценарию Маккарти только что (на тот момент) вышел отличный фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место», а его же постапокалиптическая повесть «Дорога» недавно взяла Пулитцеровскую премию — ее экранизация тоже стала одним из моих любимых кино.
Судя по английским рецензиям, стилистика Маккарти не могла не радовать: это «южная готика» с надлежащей тематикой. Тут мальчик-Антихрист водит по пустыне толпу обезумевших ковбоев (Blood Meridian, 1985), здесь убийца-некрофил скрывается от всего человеческого в подземных кавернах (Child of God, 1973) — сами понимаете, как тут не заинтересоваться. На русский из всего Маккарти на тот момент были переведены только «Кони, кони...» (1992) — произведение, которое описывалось критиками как не слишком характерное для автора. Но я все равно взялся.
Да, «Кони» резко отличались от фрагментов «Кровавого меридиана», которые я пощипывал в оригинале. Вместо скупой гипнотичности языка ранних произведений автор пользуется развернутыми конструкциями. Но не все по-новому: Маккарти продолжает экспериментировать с пунктуацией и не выделяет диалоги из остального массива текста ничем, кроме абзацев. От этого речь начинает «минерализироваться» — начинаешь путать тех, кто говорит, а реплики обретают весомую равнозначность.
Но все же, где некрофилы? Где Антихрист?!
В не лишенном мелодраматизма сюжете юный отпрыск техасского рода бежит с другом из родного ранчо, удаляясь в мистическую пустыню Мексики. Дальше — лошадиный пот, работа на асьендо, страстная любовь к дочке хозяина и, конечно, кровь. В какой-то момент продолжаешь читать из самодисциплины, но ближе к финалу магия текста раскрывается.
Маккарти прежде всего отличный о-писатель, точно рисующий величие безлюдных пространств — леденящее, безначальное, родственное в своей нечеловеческой логике силам судьбы. Собственно, весь пубертат смывается дыханием этой логики, и сквозь марево teen spirit начинает проступать фигура из романов воспитания. По мере того как иллюзии главного героя рушатся, обнажается стальной, печальный, прекрасный каркас чего-то нового. «Кони» — крепко сбитый пример young-adult литературы, а те, кому хочется «постарше», — перечитайте «Кровавый меридиан».
«Наконец они отыскали воду в каменном резервуаре, спешились, напились из трубы и, напоив лошадей, устроились в тени от мертвых дубов со скрюченными сучьями и стали осматриваться по сторонам. Капитан совсем посерел и как-то съежился. У одного его сапога оторвался каблук. Лицо его было в грязных потеках, и брюки почернели от костра. Через шею, в виде перевязи для руки, был перекинут ремень.
Я не собираюсь убивать тебя. Я не такой, как ты, сказал Джон Грейди.
Капитан промолчал.
Джон Грейди с трудом поднялся на ноги, вынул из кармана ключи и, пользуясь винтовкой как костылем, наклонился к капитану, поднял его руки и снял с него наручники. Капитан посмотрел на свои запястья. Кожа сделалась бледной, и на ней четко проступали красные следы. Капитан стал осторожно растирать пострадавшие места. Джон Грейди наклонился над ним.
Сними рубашку. Попробую вправить тебе плечо.
Чего?
Китесе су камиса, повторил по-испански Джон Грейди.
Капитан угрюмо покачал головой и, словно ребенок, протестующе выставил перед собой руку.
Не валяй дурака. Я не предлагаю. Я приказываю.
Чего?
Но тьене отра салида.
Он взял в руки капитанову рубашку, разложил на земле, велел капитану лечь. Плечо было мертвенно-белого цвета, и все предплечье посинело и распухло. Капитан поднял голову. На лбу выступили капельки пота. Джон Грейди сел на землю, уперся сапогом в капитанову подмышку, ухватил поврежденную руку за запястье и локоть и медленно стал вращать. Капитан смотрел на него с видом человека, только что упавшего с обрыва.
Не бойся. В моей семье уже сто лет лечат мексиканцев.
Если капитан и принял решение сносить боль молча, то из этой затеи у него ничего не вышло. От его вопля кони загарцевали, закружились, стараясь спрятаться друг за друга. Капитан уцепился здоровой рукой за больную так, словно это была его собственность, которой его собирались лишить. Но Джон Грейди успел почувствовать, что сустав вправлен. Одной рукой он придерживал капитаново плечо, а другая вращала исцеленной конечностью. Капитан мотал головой и стонал. Затем Джон Грейди отпустил его, взял винтовку и встал.
Все в порядке, отдуваясь, спросил капитан.
В полном.
Капитан держался за руку и моргал».