Мур окутан страшной мглой
Об «Иерусалиме» — ностальгическом эпосе Алана Мура
Алан Мур. Иерусалим. М.: АСТ, 2021. Перевод с английского Сергея Карпова
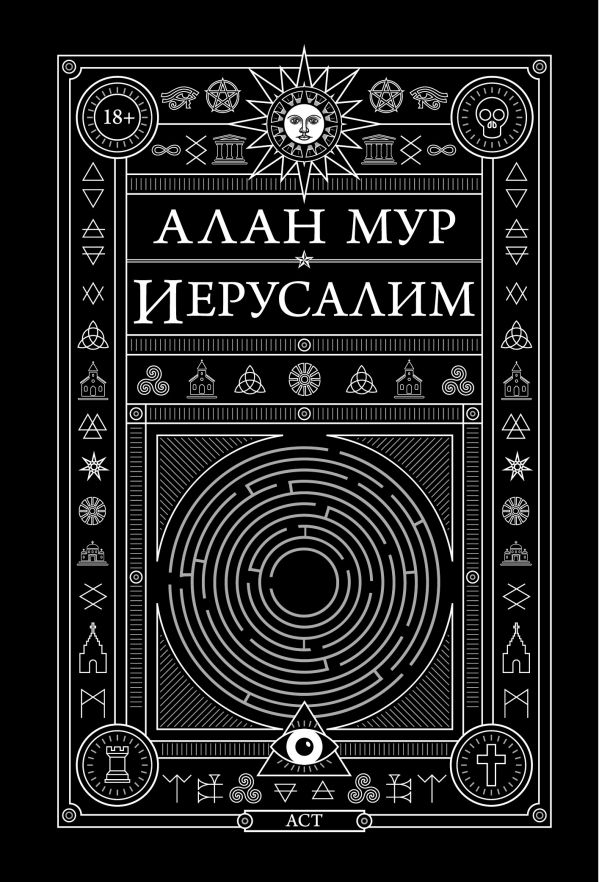 На прошедшей недавно ярмарке Non/fiction мы наблюдали забавную сцену. В павильон комиксов пришла посетительница, которая спросила, где ей взять «Иерусалим» Алана Мура.
На прошедшей недавно ярмарке Non/fiction мы наблюдали забавную сцену. В павильон комиксов пришла посетительница, которая спросила, где ей взять «Иерусалим» Алана Мура.
— Идите на стенд издательства АСТ, — ответили ей.
— Я только что там была, меня сюда отправили.
Забавна эта сцена прежде всего тем, что «Иерусалим» — не комикс, а огромный том самой что ни на есть прозы в виде слов, записанных в строчку. Во-вторых, заведующие стендом АСТ сами об этом по каким-то причинам не знали (возможно, потому, что книга на тот момент еще даже не вышла из типографии, и мы даже сомневаемся, поступит ли она в магазины в день, когда вы читаете эту заметку).
Мораль описанной нами сценки проста, очевидна и в чем-то безрадостна. Заключается она в том, что идейный нонконформист Алан Мур давно превратился из писателя в бренд, под которым можно выпускать что угодно, — и все равно найдутся охотники продемонстрировать себе и миру свои демократические взгляды на литературу, купив очередной муровский том, чтобы поставить его рядом с «V — значит Vендетта», «Хранителями» и «Провиденсом». С такими читателями «Иерусалим» сыграет, пожалуй, еще более злую шутку, чем порнографический опыт Мура «Пропащие девчонки».
Что же их ожидает, если вкратце? Зачин романа Алана Мура в самых общих чертах таков. Брат и сестра Альма и Мик Уоррены коллективно галлюцинируют, пытаясь понять, что произошло с Миком в несколько дней между его смертью и воскрешением; наркозависимая эротоманка Марла заедает шоколадный батончик лапшой быстрого приготовления и размышляет о гибели принцессы Дианы; престарелый поэт-неудачник Бен с похмелья мучается от метеоризма и вспоминает, как Сэмюэл Беккет бегал на свидания к Лючии Джойс, жившей по соседству с Беном, а по улицам Нортгемптона разгуливает Мертвецки Мертвая банда призраков, рыдающих эктоплазмой. В общем, происходит черт знает что. Прибавьте к этому предельно свободное течение времени, заставляющее повествование перескакивать от столетия к столетию, начиная глубоким средневековьем и заканчивая днями текущими, и вы поймете хотя бы то, что роман Алана Мура очень сложный. А еще «Иерусалим» очень объемный, аннотация на сайте АСТ гордо гласит, что роман «длиннее „Оно“, „Улисса“ и „Бесконечной шутки“».
Видит Бог — на этом нам хотелось бы поставить точку, поскольку любые поспешные суждения о столь непростом феномене обречены на вульгарную профанацию, но все же мы попытаемся рассказать о наших первых выводах, сделанных после знакомства с «Иерусалимом».
Зададимся предельно школьным вопросом: зачем вообще писать длинные громоздкие романы, когда можно написать роман небольшой и изящный? Если мы не имеем дело с откровенной графоманией, то в каждом случае ответ на этот вопрос будет разный. Многословие «Тристрама Шенди», например, служило специфическому чувству юмора Лоренса Стерна; абсурдный объем «Человека без свойств» Роберта Музиля дополнял абсурдное содержание всего романа; ну а Дэвид Фостер Уоллес «Бесконечную шутку», говорят, написал, чтобы произвести впечатление на девушку, которая ему нравилась — тоже не самая плохая задача. (Еще, конечно, есть то, что можно назвать «комплексом Большого Автора», который не дает писателю спокойно сойти в могилу, не оставив потомкам нравоучительный пылесборник со своим именем на обложке, но это вроде бы сугубо русская болезнь).
Краткий и ни в коем случае не претендующий на истину разбор «Иерусалима» начнем с того, что Мур, в принципе, редко работает с собственными персонажами и сюжетами, предпочитая обращаться к готовым большим нарративам, или, если угодно, большими сеттингами XX столетия. В «Вендетте», от благородной простоты которой с годами, увы, отошел Мур, это был большой нарратив, который условно можно назвать «одиночка против системы». Действие комикса наполнялось предельно прозрачными отсылками к английской истории (древней и новейшей) и к опыту Холокоста, а сам протагонист Ви был собирательным образом архетипического интеллектуала-вигиланта, стихийного анархиста с неочевидной моралью. «Хранители» — вообще одна сплошная деконструкция супергеройского комикса, «Лига выдающихся джентльменов» — элегантный кроссовер про викторианских героев и антигероев, «Провиденс» — монументальный оммаж вселенным Лавкрафта, «Девчонки» — и вовсе акт культурного терроризма, жертвами которого становятся любимые сюжеты детства. Схожим образом действует и Мур-прозаик, только под его нож на этот раз отправляются не сюжеты и герои, а целые техники письма и культурные стратегии.
Во-первых, «Иерусалим» встает в длинный ряд модернистских романов, главным героем которого оказывается город, разрешающий населить себя многочисленными обитателями. Как в «Улиссе» Джойса или в «Петербурге» и «Москве» Андрея Белого, центральное место отведено улицам и фасадам, на этот раз — родного для Алана Мура Нортгемптона. Этот пафос столетней давности предельно понятен — художник-модернист в своем величии схлопывает целую вселенную до границ одной небольшой территории в сердце Англии. Верным помощником автора в этом деле становится описание. Бесконечное, долгое, детальное и, признаться, усыпляющее описание каждого булыжника в мостовой. Надо заметить, таких долгих бессодержательных периодов не позволял себе даже отец шозизма Ален Роб-Грийе. Что же это такое? Слепое воспроизведение давно устаревшей художественной практики? Или откровенное издевательство над читателями и критиками, которые просто не могут не похвалить Мура за такое мастерство? Мы думаем, что и то, и другое. Мур через призму постмодернистского культа копирования действительно реанимирует труп описательного романа, но делает это настолько изощренно, что редкий читатель избежит соблазна перепрыгнуть через десяток страниц, на которых явно не случится ничего, кроме того, что кто-то закурит сигарету и выразит свое отвращение к окружающему миру.
Во-вторых, «Иерусалим» — это деконструкция семейной саги. Генеалогическая хронология полностью разрушается, прадед и правнук идут нога в ногу каждый в своем времени (а порой и в одном), а одно мгновение становится важнее целой прожитой жизни. И этот пафос тоже предельно ясен — в постмодернистском мире разрушены самые первоосновы человеческого бытия, и наиболее наглядно в этом смысле разрушение семейных уз. Если в одночасье рухнуло то, что выстояло не одно тысячелетие, то кто сказал, что не может быть разрушено то, что априори нерушимо — скажем, время? Но все это уже давно, много раз и с, будем честны, куда большим изяществом реализовали, скажем, такие блестящие писатели, как Петер Надаш или Клод Симон.
В-третьих, на страницах «Иерусалима» Мур беззастенчиво расчехляет весь боевой комплект среднестатистического автора-интеллектуала, умоляющего дать ему Букеровскую премию, эдакого библиотечного писателя вроде Кутзее (при всем уважении). Здесь и обязательный в таких случаях Витгенштейн, и буколические поэты семнадцатого века и третьего ряда, и, разумеется, огромное количество отсылок, очевидных и не очень, к самым разным культурным пластам — если бы к «Иерусалиму» прилагался академический корпус комментариев, он по толщине не уступал бы основному тексту романа. Интеллектуальная перегруженность диктует и специфику пестрого муровского письма, в котором без особых проблем соседствуют эталонный диккенсовский слог, скатологическое барокко Джойса, грязный реализм и еще десятки других методов изображения действительности посредством слова (тут пора бы отбить земной поклон переводчику Сергею Карпову, взявшемуся за этот нечеловеческий труд).
Три перечисленных пункта лично нам дают хотя бы подобие ключа к пониманию всего циклопического текста Алана Мура, который нам кажется романом о тотальной ностальгии. Прежде всего — ностальгии по тем временам, когда в искусстве еще был возможен эксперимент. Все-таки становление Мура как автора пришлось на ту эпоху, когда людей еще можно было удивить музыкой (он сам в юности играл в готической группе The Sinister Ducks, где его партнером был Дэвид Джей из Bauhaus), историями (его «Убийственная шутка» мигом перевернула всю вселенную Бэтмена, под завязку наполнив ее нуаром и шок-контентом) или просто образом жизни (ну кого сейчас изумит оккультно-леворадикальное мировоззрение Мура?). Ностальгия по культуре авангарда неизбежно переходит в реакционную ностальгию по собственной жизни и родной территории, неизбежно меняющейся и заполняющейся все новыми и новыми призраками.
Но «Иерусалим» — это еще и то, что мы бы назвали литературой повышенной степени визионерства, литературой, которая подвергает разум читателя настолько массированной галлюцинаторной атаке, что самые гротескные видения, окутанные страшной мглой, обретают плоть и кровь, лишая возможности усомниться в своей реальности. В этом срезе «Иерусалима» наконец проявляется индивидуальное писательское мастерство Мура, практикующего мага, умеющего создавать целые миры, в которых жить не особо хочется, но приходится. Именно дар визионера почти, но не до конца, спасает весь роман, который иначе остался бы вторичной невнятицей, эксцентричным недоразумением в практически идеальной библиографии выдающего писателя. Со временем мир, описанный Муром, наверняка обзаведется фэндомом, адепты которого разберут роман на составные части, отрисуют запутанные схемы повествования и поставят его на одну полку с другими переусложнеными книгами, ставшими культовыми. И все же «Иерусалим», как ни обидно это признавать, — изысканный, мастерски инкрустированный и невыносимо тяжелый камень на могиле художественного метода познания мира.
Напоследок хотелось бы ответить на вопрос, почему роман, действие которого разворачивается в Нортгемптоне, называется «Иерусалим». По этому поводу вспоминается замечательный эпизод из фильма «Бартон Финк».
Заглавный герой, находящийся в творческом кризисе драматург, сталкивается в уборной с карикатурным писателем-модернистом, в образе которого без труда угадывается Уильям Фолкнер. Он спрашивает у более именитого коллеги совета, но последний произносит длинную тираду о том, что ему нужно срочно напиться, и приглашает Бартона Финка зайти как-нибудь в гости. Следующая их встреча начинается с того, что «Фолкнер» швыряет на стол свой новый роман. На обложке поистине огромной книги, упавшей с оглушительным грохотом, написано: «Навуходоносор».
Не знаем, как вы, а мы очень смеялись на этом моменте.