Монахи, шаманы и один американский каннибал
Cамые интересные книги недели по версии «Горького»
Дерф Бэкдерф. Мой друг Дамер. СПб.: КомФедерация, 2019. Художник Дерф Бэкдерф. Перевод с английского Ксении Ефремовой
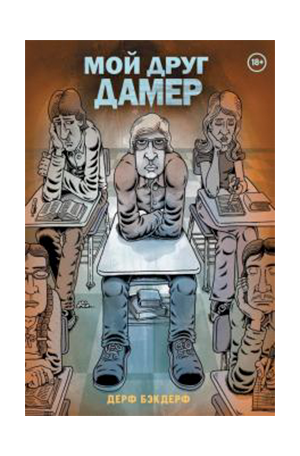 В 1993 году в телеинтервью программе Inside Edition Джеффри Дамер, бывший рабочий шоколадной фабрики в штате Милуоки, а на тот момент заключенный тюрьмы строгого режима в штате Висконсин, с леденящей отрешенностью произнес в камеру: «Оглядываясь назад, я понимаю, что заставлял свои жертвы страдать так же, как страдал я сам».
В 1993 году в телеинтервью программе Inside Edition Джеффри Дамер, бывший рабочий шоколадной фабрики в штате Милуоки, а на тот момент заключенный тюрьмы строгого режима в штате Висконсин, с леденящей отрешенностью произнес в камеру: «Оглядываясь назад, я понимаю, что заставлял свои жертвы страдать так же, как страдал я сам».
Дамера арестовали, когда его очередному обреченному любовнику удалось вырваться и вызвать полицию. Дома у неприметного работяги нашли обширную коллекцию человеческих органов. Выяснилось, что за 13 лет «карьеры» серийный убийца Дамер убил, замучал, изнасиловал и частично съел 17 мужчин — в основном молодых, и в основном цветных.
Дерф Бэкдерф — известный американский художник комиксов, а «Мой друг Дамер» — его самый известный графический роман, взявший несколько премий и переживший экранизацию. Как биографическая история «Мой друг...» рассказана просто и лаконично, мучительно-несуразный протагонист вызывает если не сочувствие, то что-то вроде понимания. Характерная бэкдерфская черно-белая гамма особенно уместна — усиливает документальный эффект.
Дерф и Джеффри познакомились в школе, когда им было около 12, и сюжетная линия ведет главного героя вплоть до выпускного, чтобы оставить читателя наедине с закрытой книгой, а Дамера — наедине с самим собой за несколько недель до первого убийства.
Будущий художник и будущий каннибал общались, приятельствовали. Бэкдерф охотно рисовал странноватого однокашника для школьной газеты, но нередко речь шла о подколах, причем не вполне добрых. Например, ребята организовали «фан-клуб Дамера» и подбивали пьющего чудика, помешанного на мертвых животных, изображать эпилептические припадки. Впрочем, тот был непрочь.
«Мой друг...» — из породы произведений, чей драматический нерв связан с точкой невозврата. Дерф определяет ее, разумеется, слишком просто — первое убийство. Но эмпатия к раздираемому изнутри подростку, да и элементарная, не спровоцированная картинками с текстом человечность, заставляет задаваться вопросами. Можно ли было «что-то сделать» с этим «школьным шутом» — замкнутым, недолюбленным, гомосексуальным и никому не нужным парнем раньше? Но что? Когда? В чьей власти это было? И был ли вообще должен кто-то что-то делать?
«Я начал собирать материалы для этой книги через несколько недель после того, как в июле 1991 года широкая общественность узнала об ужасных преступлениях Дамера. Я еще не знал, что буду делать с материалами, но уже понимал, что передо мной удивительная история, которую не рассказали обычные СМИ, крутившиеся вокруг Дамера, и что моя дружба с Джеффом ставила меня в уникальное положение. Несколько лет я вообще никак не развивал эту идею, но 28 ноября 1994-го, когда Джеффа убили в тюрьме, я испытал такое потрясение, что сел и нарисовал первый рассказ. Для вас Дамер — враг рода человеческого, но для меня он был товарищем, с которым я сидел рядом в комнате для самоподготовки и занимался в одном музыкальном ансамбле».
Джорджо Агамбен. Высочайшая бедность. Монашеские правила и форма жизни. М.; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. Перевод с итальянского и латинского С. Ермакова
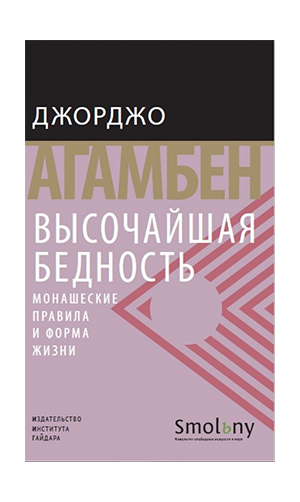
Один из главных предметов исследовательского интереса Джорджо Агамбена, объединяющий серию работ Homo Sacer, — это то, в какие отношения вступают между собой жизнь и право, закон. Если в ранних работах («Чрезвычайное положение», «Суверенная власть и голая жизнь») философа заботили пограничные ситуации, где право вытесняет жизнь на грань физической гибели, то в «Высочайшей бедности» (2011) философ обращается к иному кейсу — практикам средневековых монашеских орденов, где жизнь без остатка сливается с правилом.
Но чем правило отличается от права или закона? По Агамбену, правило может производить, создавать, конституировать жизнь, к которой оно прикладывается, тогда как право «имеет амбицию» лишь регулировать и управлять тем, что уже наличествует. Высшим проектом по такому слиянию правила и жизни (впрочем, потерпевшим неудачу, и Агамбен объясняет почему) исследователь полагает католический нищенствующий орден францисканцев, где жизнь ради проповеди Христа впитывает в себя ту самую высшую бедность — отказ от собственности, но не по закону, а как форму самой жизни, свободной от обладания вещами, регулируемого правом.
Агамбеновские рассуждения, как всегда, изящно комбинируют философию и теологию, историю и филологию, но могли бы быть интересны лишь специалистам, если бы итальянец не совершал постоянных выпадов в настоящее. Ведь в его перспективе, «Запад должен будет снова и снова сталкиваться со своей непреложной задачей: как мыслить форму-жизни — то есть человеческую жизнь, полностью изъятую из охвата правом, — и такое использование тел и мира, что никогда не субстанциализируется в присвоении».
И поскольку сверхзадача автора ни много ни мало «продумать» жизнь и мир как то, что никогда не дается в собственность (и потому никогда «не потребляется»), но всегда находится в общем пользовании, можно воспринимать «Высочайшую бедность» как очередной — и весьма внушительный — эпизод борьбы христианской традиции мысли с капиталистической культурой потребления.
«Благодаря учению о пользовании францисканская жизнь могла безоговорочно утверждать себя как существование, располагающееся за пределами права, — как то, что должно отречься от права, чтобы быть, — и это, безусловно, представляет собой наследство, которое Новое время оказалось неспособным встретить лицом к лицу и которое наше время, судя по всему, не в состоянии помыслить. Но что такое жизнь за пределами права, если она определяет себя как таковая форма жизни, что , пользуясь вещами, никогда не присваивает их? И что такое пользование, если перестать определять его только негативным образом по отношению к собственности?»
Владимир Конашевич. Воспоминания. Материалы к биографии художника. Псков: Красный пароход, 2019
 В «Свастике и Пентагоне» герой Пепперштейна восклицает: «Советская детская литература — это тоже бомбоубежище (...) Оно сможет спасти нас и от оружия будущего. Американцы отсосут. Мы спрячемся у самых корней — у корней Чуковского».
В «Свастике и Пентагоне» герой Пепперштейна восклицает: «Советская детская литература — это тоже бомбоубежище (...) Оно сможет спасти нас и от оружия будущего. Американцы отсосут. Мы спрячемся у самых корней — у корней Чуковского».
Любой читатель, бывавший советским ребенком (и, пожалуй, не только он), ни с кем не сговариваясь, знает, как будут выглядеть персонажи, которые поджидают у тех самых «корней». Все эти медвежата, лягушата, федорины сковородки и прочая чуковская фауна сойдут с иллюстраций Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963) — с ярких, изобретательных, хватко цепляющих зрителя иллюстраций, быть может, лучшего советского художника детских книг первой половины XX века.
Вероятно, тем удивительнее понимать, что для самого Конашевича ниша детской книжной графики оказалась скорее вынужденной. Своей «творческой отрадой», предназначенной для узкого круга зрителей, он считал станковую живопись, а взрослой книжной графики, пройдя фигурантом по делу 1936 года «о художниках-пачкунах», стал сторониться.
Эта война творческих порывов и идеологических обломов остаются за рамками воспоминаний мастера, написанных — с интонацией удивительной доброжелательности и любви к миру — в годы блокады, которую Конашевич провел в Ленинграде. Точно также (почти!) остается вне воспоминаний и сама война. С продутых смертью ленинградских проспектов художник совершает побег в счастливое детство и полную надежд юность — к любимым родственникам, в реальность первых бесед с художниками-сверстниками и старшими мастерами, первому осознанию, кем он хочет быть и как рисовать.
И эту фигуру исключения невыносимой реальности из мемуарного текста не хочется трактовать как жест эскапизма. Автор обоснованно замечает, что смысл события невозможно раскрыть в момент события — «те ужасы проходили мимо меня, как за туманной завесой», а во-вторых, хочется верить, что где-то здесь кроется ключ к невероятному жизнелюбию его картин.
 Издание блестяще иллюстрировано авторскими работами разных лет, архивными фотографиями, а также снабжено воспоминаниями Екатерины Гран, внучки Конашевича, «О моем дедушке».
Издание блестяще иллюстрировано авторскими работами разных лет, архивными фотографиями, а также снабжено воспоминаниями Екатерины Гран, внучки Конашевича, «О моем дедушке».
«То, что делалось в Московском училище в те годы, меньше всего можно было назвать преподаванием живописи. В классы широко хлынуло новое искусство (больше французское). Профессора как-то растерялись, спасовали перед этим явлением. Они понимали, что помешать этому невозможно. А некоторые из них считали это не только невозможным, но и ненужным, сами захваченные (больше теоретически) этой свежей волной.
Высоко держал голову только один К. Коровин (...)
Какое место я сам занимал среди пестрой толпы, наполнявшей мастерские школы живописи, не знаю. Бурлюк как-то сказал мне: «Кто вы? Вы декадент, и ваш отец и дед были декаденты». Это слово — «декадент» — тогда еще произносилось всерьез и означало больше «новатор», нежели «вырожденец». Я заметил Бурлюку, что рисую точно и сухо, и пишу только черным и коричневым.
«Что ж из этого, — сказал он, — и Пикассо пишет коричневым».
Александр Бренер. Искусство жизни и искусство видеть: Блинова и Хальфин. Алматы: Aspan Gallery, 2019
 Прошлой осенью алма-атинская галерея Aspan Gallery представила выставку, посвященную Лидии Блиновой (1948–1996), одной из знаковых героинь современного искусства Центральной Азии. Вместе с мужем Рустамом Хальфиным (1948–2008), более известным казахстанским художником, который называл жену «альтер эго» и «своей Родиной», Блинова организовывала квартирные выставки неофициальных художников Алма-Аты.
Прошлой осенью алма-атинская галерея Aspan Gallery представила выставку, посвященную Лидии Блиновой (1948–1996), одной из знаковых героинь современного искусства Центральной Азии. Вместе с мужем Рустамом Хальфиным (1948–2008), более известным казахстанским художником, который называл жену «альтер эго» и «своей Родиной», Блинова организовывала квартирные выставки неофициальных художников Алма-Аты.
Специально к выставке, посвященной Блиновой, галерея подготовила три издания, одно из которых — серию очерков — написал Александр Бренер, сам алмаатинец, охарактеризовав ее как «не слишком умелое признание в любви».
И действительно: эта тоненькая книжица, с обложкой не из самого приглядного картона, несет в себе следы трогательнейшей речи подлинно влюбленного — благоговейно-сбивчивой, когда рассказ заходит о «тихом достоинстве Лиды», и уважительно-восхищенной — если «о напряженном поиске Рустама».
Бренер всегда удивляет: насколько жестким (даже не столько жестким, сколько страшновато-дурным) он предстает в отдельных своих акциях, столь же блаженным, юродиво мягким — в своей прозе. Его фигура ничуть не заслоняет главных героев этой дружеской биографии, но лишь помещает и раскрывает в разных мирах и пространствах: на алма-атинской кухне за чаем с клубникой, в коммуналке на Петроградке, на линии постоянного противопоставления Пикассо и Клее, в изобретенной Хальфином «пулоте» (пустоте и полноте одновременно) и на фоне агамбеновского вопроса — что остается, когда от нас не остается ничего.
Самая, пожалуй, главная заслуга автора, что книга оказывает гармонизирующий эффект вне зависимости от того, знали ли вы фамилии Блинова и Хальфин до этого и трогает ли вас казахстанский контемпорари-арт в принципе.
«Я сидел в дальнем конец комнаты и вдруг посмотрел на Лиду, находившуюся в другом конце. Меня поразило выражение ее лица, ее беглая улыбка. Я подумал, что ей одиноко среди людей. У меня возникло ощущение, что ей одиноко среди людей. У меня возникло ощущение, что Лида одновременно присутствует здесь и находится в каком-то другом месте. Что это было за место? Предполагаю, что оно не было доступно никому, кроме нее. Это было тайное, особое место. Но Лида свою отстраненность отнюдь не афишировала, почти никак не обнаруживала. Только вот эта странная, задумчивая улыбка.
Лида постигла тончайшее, деликатнейшее искусство — быть здесь и укрывать в себе. Редчайшее искусство подлинного художника жизни».
Виктор Михайловский. Шаманизм. М.: Вече, 2020
 Труд российского этнографа и историка Виктора Михайловича Михайловского (1846–1904) — одна из первых (в мире!) попыток обобщения шаманизма как цельного явления, а не совокупности специфических верований отдельных народов; словом, классика жанра как она есть.
Труд российского этнографа и историка Виктора Михайловича Михайловского (1846–1904) — одна из первых (в мире!) попыток обобщения шаманизма как цельного явления, а не совокупности специфических верований отдельных народов; словом, классика жанра как она есть.
В книгу вошли два из пяти задуманных очерков, которые посвящены миросозерцанию «шаманистов» в целом и шаманству «нецивилизованных» народов Сибири и Европейской России. В продолжении должны были рассматриваться проявления шаманизма у «некультурных» народов на просторах от Америки до Африки и Полинезии, но завершить работу автор не смог.
По современным меркам очерки Михайловского не слишком научны. Нет в них не «незаинтересованности», ни саморефлексии наблюдающего взгляда. Исследователь постоянно переключается из режима скептика-позитивиста в режим доброго христианина, от чего шаманы предстают то хитрыми фокусниками, то служителями бесов.
Главный козырь этих очерков, увидевших свет в 1892 году и впервые, кажется, изданных в современной орфографии, состоит не только и не столько в том, что это памятник подзаветренной религиоведческой мысли, сколько в богатстве задействованного этнографического материала. Значительная часть собранных данных ныне наблюдателю недоступна — по той простой причине, что соответствующих традиций уже не существует вместе с их носителями.
В качестве приложения в книгу фрагментарно включены «Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю 1919–1912 гг. По поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии». Эти тексты попадают к читателю впервые с 1924 года — когда и были опубликованы.
«Эти два черные шамана Энхэр и Биртакгаин не могли управиться с шаманкой и обратились за помощью к черному шаману Хагла. Только втроем они с большими усилиями съели колдунью и получили свои 40 голов разного скота. Шаманка умерла; соседи похоронили ее следующим образом: гроб сделали из осины и полoжили в него шаманку вниз лицом. Потом вырыли глубокую яму и, опустив в нее гроб, осиновыми кольями пригвоздили покойницу к земле и придавили осиною, а потом завалили землей. По понятиям бурят дерево осина нечистое, и потому шаманы не топят им, боясь сделаться нечистыми. Осиновый гроб означает, что шаманка сделалась нечистою, а положение лицом вниз и пригвождение осиновыми кольями не дозволяет ей делать людям никакого зла и вреда».