Много красного цвета
Валерий Шубинский о биографиях революционеров
Столетие октябрьского переворота было отмечено в России неожиданно тихо. И все-таки без размышлений о том, что произошло век назад в России, о том, что привело к этим событиям, о людях, которые возглавляли эти события и участвовали в них, не обойтись. Пусть этот выпуск будет посвящен биографиям русских революционеров. Их появилось в последние годы немало, в том числе и в самое последнее время.
Начнем с двух недавно вышедших биографий Феликса Дзержинского.
 Сильвия Фролов. Дзержинский. Любовь и революция. М.: АСТ, 2017
Сильвия Фролов. Дзержинский. Любовь и революция. М.: АСТ, 2017
Название книги польской исследовательницы несколько настораживает: не предлагают ли нам бульварную поделку с малодостоверными «жареными фактами» из интимной жизни героя? Тем более что аннотация обещает «ранее нигде не публиковавшиеся письма Дзержинского родным и любовные признания, адресованные любовницам, — перехваченные службой государственной безопасности и скрытые на несколько десятков лет в совершенно секретных московских архивах, чтобы не допустить скандала». Но будем справедливы: эти материалы занимают очень немного места. Исследовательница не упивается пикантными подробностями (да они и не особо пикантны) и старается не транслировать мифы, а опровергать их (например, об убийстве юным Дзержинским сестры — пятнадцатилетняя сестра в самом деле погибла от случайного выстрела, сделанного братом, но этот был другой брат, не Феликс). Она стремится к объективности. Это особенно актуально на фоне традиций польской массовой культуры: там была тенденция описывать соотечественника, ставшего главой тайной полиции в соседней и недружественной стране, «в духе историй про графа Дракулу».
У Сильвии Фролов Дзержинский более сложен: в молодости — возвышенный, даже благочестивый юноша; в зрелости — кровавый фанатик, несомненно, но и филантроп, заботящийся о беспризорных детишках, талантливый хозяйственник («Если бы экономическая политика Дзержинского была продолжена, у СССР был бы шанс… Нет, конечно, государство было бы идеологически инфицировано, но его жители могли бы хоть в какой-то мере пожить в достатке»).
Беда в том, что эту «уравновешенную» точку зрения она предпочитает преподносить читателю в эффектно-контрастной, иногда несколько мелодраматической форме. Начинается книга с описания воображаемого суда над Дзержинским. Прокурор расписывает зверства чекистов («Жертв бросали в кипящую воду, с живых сдирали кожу, сажали на кол, заживо сжигали или закапывали в могилы, нагими выводили на мороз и поливали водой до тех пор, пока они не превращались в ледяные статуи»), вспоминает о Фанни Каплан, которой якобы залили в горло расплавленный воск, — а адвокат в ответ в таких же выражениях рассказывает про зверства белых.
Да, на следующей странице поясняется, что история про воск и Фанни Каплан не соответствует действительности. Однако в других местах неточная, устаревшая, взятая из сомнительных источников информация используется без всякой критики. Вот лишь один бросающийся в глаза пример: сообщается, что поэт Гумилев, «муж Анны Ахматовой», не участвовал в заговоре Таганцева, но был арестован и расстрелян, хотя «интеллигенция обращалась к Дзержинскому с просьбой помиловать Гумилева». Здесь Фролов воспроизводит легенды, относящиеся чуть ли не к 1960-м годам. Как известно, участие Гумилева в заговоре подтверждается многими источниками — и сейчас это ни у кого не вызывает сомнений, и никто в связи с его арестом лично к Дзержинскому не обращался.
Досадно, ибо все это портит симпатичную по тенденции и живо написанную книгу, которая может быть интересна и полезна.
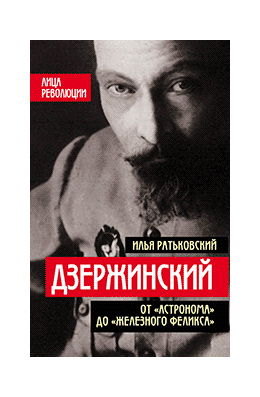 Илья Ратьковский. Дзержинский. От «Астронома» до «Железного Феликса». М.: Алгоритм, 2017
Илья Ратьковский. Дзержинский. От «Астронома» до «Железного Феликса». М.: Алгоритм, 2017
Для книги Ратьковского характерен в общем тот же «средний», уравновешенный подход к личности Дзержинского. Но этот труд несравнимо более фундаментален (ценою, правда, меньшей занимательности). Автор не стремится к эффектам — яркие и неожиданные детали вылезают сами собой. Каково, например, знать, что отец Дзержинского был гимназическим учителем Антона Чехова! Хотя исследователь не обходит вниманием юношеские романы Феликса с Маргаритой Николаевой и Сабиной Файнштейн, он резонно полагает, что это далеко не главное в его жизни. Как и Фролов (о книге которой он, кстати говоря, сдержанно-хвалебно отзывается в предисловии), Ратьковский противопоставляет эффектно-кровавой деятельности своего героя во главе ЧК его продуктивную и безусловно полезную работу в ВСНХ.
Что касается кровавых событий Гражданской войны, то Ратьковский почти текстуально воспроизводит аргументацию «защитника» из книги Фроловой: «Террор был взаимным, количество жертв белого террора даже превышает показатели красного террора». Может, превышает, может, нет — как считать; хотя даже скромные подсчеты жертв с обеих сторон впечатляют: Ратьковский темпераментно доказывает, например, что в Крыму расстреляно не 100, а всего 12 тысяч сдавшихся на милость победителя белых офицеров.
Еще один специфический для книги Ратьковского мотив: автор исходит из того, что красный террор времен Гражданской не был всецело инициирован сверху. Во многих случаях «железный Феликс» колеблется, «считает подобный размах террора ошибкой», но обстоятельства или давление снизу подталкивают его к жестокости. Иногда же именно он выступает инициатором расправ, однако даже тут биограф пытается если не оправдать, то понять своего героя:
«Полученные сведения о ряде измен, а главное, о массовых казнях в Пермском крае, имели важные последствия для изменения его взглядов на карательную политику по отношению к офицерству. До Пермской экспедиции Дзержинский не выделял бывших офицеров в Советской России как изначально враждебный элемент, подлежащий безусловному уничтожению… После января 1919 года четко прослеживается более жесткая и непримиримая позиция Дзержинского в отношении к офицерству, которая не исключала массовых превентивных расправ над ним».
В целом же перед нами не «демоническая фигура», а администратор-идеалист, вкладывающий душу и в палачество (в условиях Гражданской войны), и в созидание.
Но вот он умирает, и его похороны в последний раз объединяют представителей спорящих фракций. «Как символ красного и белого. Как символ революции, в которой так много этих цветов». Красное и белое — цвета польского флага (этот мотив проходит через всю книгу). «В геральдике белый цвет (серебро) обозначает нравственные, духовные ценности и безукоризненную чистоту; красный цвет является символом огня, мужества и отваги». Алая и Белая розы? Но в случае России 1917–1920 годов, да и более позднего времени, речь идет о противостоянии гораздо более глобальном. Что хочет сказать Ратьковский своим «геральдическим» символом? Что в личности его героя соединились те ценности, которые он отстаивал, и те, которым он противостоял?
Дальнейшая история Советского государства дает почву для подобных размышлений. Поговорим сейчас о биографиях ее «главных» вождей, появившихся в последние годы и вызвавших большой резонанс.
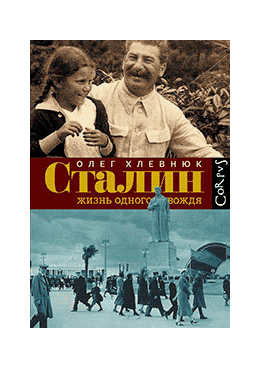 Олег Хлевнюк. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, ACT, 2015
Олег Хлевнюк. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, ACT, 2015
Книга Хлевнюка прежде всего привлекает внимание оригинальным и изобретательным решением. Вместо очередного рассказа о жизни Сталина нам рассказывают о его агонии и смерти, и уже в связи с этим обо всем остальном: о жизни диктатора до и после революции, о сталинском аппарате, о спецслужбах, армии, быте партийной элиты и, наконец, о семье и окружении вождя народов.
Пафос книги понятен. Хлевнюк крайне раздраженно относится к любым попыткам прямой или косвенной реабилитации Сталина: будь то наивная теория «хорошего царя и плохих бояр», оправдание террора связанной с ним модернизацией страны или объяснение его объективными историческими факторами.
«Конечно, было бы нелепо отрицать, что и большевизм, и пришедший ему на смену сталинизм были в определенной мере обусловлены „длинными волнами” российской истории. Сильное государство и авторитарные традиции, слабые институты частной собственности и гражданское общество, наконец, колоссальные размеры колонизирующейся державы, позволявшие, в частности, создать огромный „архипелаг ГУЛАГ”. Однако абсолютизация этих факторов до масштабов „российского рока” приводит к тупиковой теории „неизбежного Сталина”... Фактически она основана на сомнительном постулате „здравого смысла”: все, что происходит, — должно произойти обязательно, иного не дано».
Но если сталинизм не был неизбежен, если выбор самого кровавого и затратного из возможных путей модернизации не предопределен, то почему история пошла именно по этому сценарию? В конечном итоге историк приходит к преувеличению роли персонального фактора. Герой выглядит личностью невероятного масштаба — не возвращается ли сталинизм с тыла?
Что в книге Хлевнюка замечательно — это описание страны, которую Сталин оставил. Нищая деревня, еле сытый город, опустошение магазинных полок при обмене денег, огромные бессмысленные стройки (которые будут прикрыты или заморожены через считанные недели после смерти Сталина), такой же бессмысленный, искусственно затягивающийся военный конфликт с американцами в Корее и, наконец, новый правящий класс — 350-тысячная «номенклатура», партийное и советское чиновничество. И во главе всего этого — усталый, одинокий старик, распоряжающийся страной как своим усадебным хозяйством:
«…Он лично контролировал и распределял государственные ресурсы и резервы, занося важнейшие сведения в особую книжечку. Он вникал в детали сценариев кинофильмов, архитектурных проектов, конструкций военной техники. Прокладывая дорожки на своей даче, Сталин не забывал и об улицах Москвы: „Говорят, что площадь на Арбате (где раньше была церковь перед Кино) еще не покрыта брусчаткой (или асфальтом). Это позор. Одна из самых бойких площадей и вся в дырах! Нажмите и заставьте покончить с площадью”.
Величайшие преступления уже в прошлом — на новые просто нет сил. Но неужели реки крови пролиты просто-напросто ради этого убогого ада, не ради невиданного, неслыханного нового мира, о котором мечтали большевики в 1917 году! Это — лучший приговор сталинизму.
В чем, пожалуй, слабое место книги Хлевнюка — важные вещи проговариваются скороговоркой. Вот, скажем, численность погибших и пострадавших от репрессий. Методика их точного подсчета — предмет сложных и долгих дискуссий. Хлевнюк в эти дискуссии не углубляется, давая приблизительные, округленные общие цифры, в которых смешаны политические и уголовные заключенные, люди, погибшие в колымских лагерях и просто уволенные с работы. В итоге цифры получаются более внушительные, но менее информативные. Главное же — долг перед мертвыми требует если не «всех поименно назвать» (это, увы, невозможно), то проявить максимальное внимание к деталям, подробностям, конкретным обстоятельствам. С другой стороны, может быть, тема книги слишком масштабна… Ведь Хлевнюк пишет не только о Сталине, а обо всей сталинской эпохе.
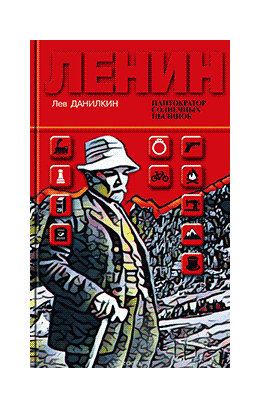 Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017
Лев Данилкин. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017
Скажу прямо: открыл увесистый том с предубеждением, относящимся скорее к его автору (как критик Данилкин — присяжный пропагандист трэшевой словесности). Но книга о Ленине недурна, несмотря на вычурное название. Во всяком случае, очень неплохо написана, особенно местами. Так что выбор жюри «Большой книги» в принципе понять можно.
Вот несколько цитат для примера.
Про Илью Николаевича Ульянова:
«Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у ИН была некоторая склонность к острословию (сохранилась его шутка про то, что „немец идет к немцу, а русский к Рузскому” — при выборе, в какую пойти купальню), которую он мог реализовать в небольшом клубе интеллигентных зануд, любителей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова».
Или, скажем, квартира Аллилуевых, где большевики останавливались в 1917 году:
«Вот подлинная медная ванна — в которой мылись Ленин, Зиновьев и Сталин… Вот „комната Ленина”, то есть на самом деле Сталина, но тот уступил ее: самая уютная. Вот кровать, где спал Зиновьев — которого Аллилуев описал в воспоминаниях 1927 года, а потом, конечно, вычеркивал… Вот подлинная бритва Аллилуева; пикантная деталь — в роли брадобрея Ленина выступил Сталин, занимавшийся, по-видимому, не столько усами или бородкой, сколько волосами на черепе. Кепка на хрестоматийной фотографии, где Ленин в парике и выдает себя за рабочего, — аллилуевская…»
И, наконец, Ильич в Горках. Это чуть ли не лучшее место:
«...Если уж на то пошло, это было не толстовское, а чеховское умирание — долгое, сознательное, очень русское: умирает чиновник, в русском пейзаже, над речкой и среди курганов вятичей, в коконе, вокруг которого — безумие теперь уже советской „палаты номер шесть”».
Привлекательны и отношение к герою (очень личное, но без любования; беспощадное, но без отвращения), и интерес к взаимопроникновению «большого» и «маленького» миров.
Ну а если перейти от качества биографической прозы к осмыслению описанного? Каким в итоге оказывается Ленин? В чем его историческая роль? «Построил с нуля структуру, которая сумела захватить власть в революционном хаосе, превратив этот хаос в функционирующее государство»? Так-то оно так, да только «Ленин — внимание! — планировал построить не государство, где все с номерами и все по талончикам, а наоборот — мир без государства вообще. Именно это и есть коммунизм». Без этой утопии на „аннаснегинский” вопрос — КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? — получаем простой ответ: политический авантюрист, манипулятор, плут. Этот ответ может включать в себя и набор курьезных человеческих (слишком человеческих) свойств: небольшой рост, плешивость, идиосинкразия на землянику, склонность читать словари в момент, когда надо успокоить нервы, картавость, наследственный артеросклероз, манера закладывать большие пальцы за проемы жилета, пристрастие к полевым цветам и отвращение к садовым… что там еще?».
Однако у книги Данилкина есть и неприятные стороны. Скажем, странные обобщающие суждения: «…Объективно существующий русско-еврейский антагонизм, отражающий конкуренцию за одни и те же ресурсы между склонными к доминированию народами». Над кем доминированию? Какими ресурсами? О чем это вообще? А польско-еврейский, немецко-еврейский, русско-польский, немецко-русский антагонизмы — как, существуют? И с чем они связаны?
Странное впечатление производит и «конспирологический» подход к конфликту Ленина и Сталина в 1922–1923 годы. Якобы и гневная записка, и «Письмо к съезду» — все фальсифицировано (гипотеза принадлежит не Данилкину, но тот ее сочувственно пересказывает). Предположим, здесь нет политического умысла (автор оговаривается: «Наши оценки дальнейшей деятельности Сталина остаются неизменны») — просто совсем неубедительно. А кто оказывается главным интриганом и фальсификатором? Это смешно, но Надежда Констаниновна Крупская.
«На протяжении четверти века рядом с главным героем этой биографии постоянно находился другой человек, который вел собственную игру, выдавая себя для посторонних за предмет обстановки… Спасибо, Надежда Константиновна; вы самый интересный человек в этой очень густонаселенной эпопее».
Ну что ж, перейдем к биографии Крупской.
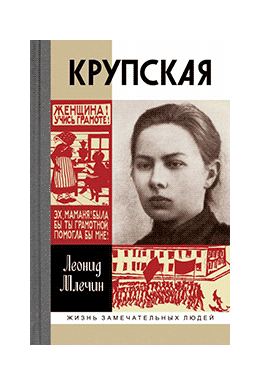 Леонид Млечин. Крупская. М.: Молодая Гвардия, 2014
Леонид Млечин. Крупская. М.: Молодая Гвардия, 2014
«…В октябре 1917-го Владимир Ильич смело взял на себя управление огромной страной, погрузившейся в хаос и вынужденной вести войну. И одна только Надежда Константиновна всегда и во всем поддерживала его и никогда не сомневалась в его правоте. Только она понимала, насколько хрупок его организм и какую непосильную ношу он взвалил на себя. И потому он уйдет из жизни первым, очень рано. Оставит ее одну, беззащитную перед вихрями жестокого времени».
Едва ли уместен подобный сентиментальный тон в отношении людей, которые участвовали в кровавых событиях, возглавляли их — и сами никого не жалели. Но что остается помимо этого?
Вот девочка из чиновничьей семьи. Мать писала для нее наивные детские стихи и даже публиковала их. Закончила гимназию, поступила на Бестужевские курсы, что-то не пошло, бросила. Связалась с революционными кружками. В двадцать девять лет почти случайно вышла замуж за сухого и авторитарного человека, вкладывавшего весь свой огромный темперамент только в политическую борьбу. Не оставила его, когда у него начался роман на стороне. Помогала ему в работе, ухаживала за ним в болезни.
Ничего похожего на созданную воображением Данилкина умницу-интриганку, большевистскую леди Макбет. О чем тут писать? Не случайно авторы предпочитают говорить о посторонних вещах, явно заполняя хоть чем-то объем книги. Иногда это выглядит комично. Глава называется «Почему у них не было детей». Вся, с начала и до конца, — про фракционную борьбу в партии. И в самом финале:
«А почему, собственно, у них не было детей? Обычных в нашу эпоху анализов им не делали, так что точный ответ невозможен. Через два года после свадьбы, 6 апреля 1900 года, Ленин посетовал в письме матери: «Надя, должно быть, лежит: доктор нашел (как она писала с неделю тому назад), что ее болезнь (женская) требует упорного лечения».
Зато дальше о том, что а вот у императрицы Александры Федоровны сын родился и страдал гемофилией… Да, об этом-то поинтереснее будет!
И все же в жизни Надежды Крупской есть один важный и интересный сюжет, и он связан не с ее мужем, а с работой в Наркомпросе. Там она оказывается соратницей любопытных людей: милого, но легковесного Луначарского, историка Покровского («коммунистического графа Кассо», как назвал его Ходасевич, наивного материалиста в духе XVIII века, считавшего себя марксистом и целенаправленно разрушавшего старую университетскую систему — во имя чего-то нового, конечно), умного негодяя Вышинского… Сама Крупская делает много неприятного (составляет списки подлежащих изъятию их библиотек книг, добивается запрещения сказок Чуковского). В то же время реформа школьного образования, которой она занимается, по иным параметрам выглядит вполне современно:
«В 1929–1931 годах пытались внедрить в школе „метод проектов”, позаимствованный в США. Школьники брались сами выполнить какое-то практическое задание (проект), чтобы в ходе работы получить необходимые навыки. Учителю оставалась роль консультанта. Взяли на вооружение „Дальтон-план” (бригадно-лабораторный) — американский метод, когда школьники сами планировали свою учебную работу, советуясь с учителем…»
Вскоре это было свернуто. Сталин (сам в гимназии не учившийся!) старой гимназической системе доверял больше. Таким образом, судьба Крупской отчасти повторяет в миниатюре судьбу ее «великого мужа» и его соратников: то, что было в ее деятельности созидательного и модернизирующего, оказалось выхолощено — а разрушительное и гнусное осталось…
Теперь несколько слов о недавно вышедших биографиях предшественников большевиков — биографиях русских революционеров XIX столетия.
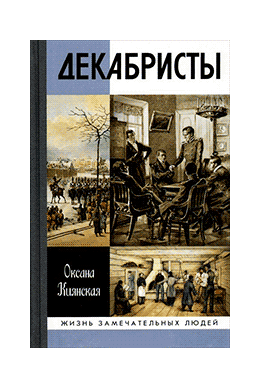 Оксана Киянская. Декабристы. М.: Молодая гвардия, 2017
Оксана Киянская. Декабристы. М.: Молодая гвардия, 2017
Книга историка, много лет занимающегося декабристским движением, содержит совершенно новую концепцию истории декабризма. По мнению Киянской, следственной комиссии удалось найти и описать лишь «верхушку айсберга» — тайные общества, в которых формировались политические идеи. На самом деле заговор, во всяком случае на юге, во 2-й армии, был гораздо более разветвлен. К нему были причастны такие крупные военные деятели, как П. Д. Киселев и П. Б. Витгенштейн.
«О существовании „плана 1-го генваря”, как называли его сами заговорщики, хорошо известно историкам… Однако конкретное содержание этого плана осталось исследователям неизвестно. Декабристы на следствии старались говорить на эту тему как можно меньше. Для того, чтобы это конкретное содержание выявить, необходимо вновь обратиться к методу исторической реконструкции. И попытаться совместить официальные показания заговорщиков на следствии с документами, характеризующими их служебную деятельность в конце 1825 года».
Реконструкция Киянской заставляет заново осмыслить многие сюжеты. Почему Трубецкой не вышел 14 декабря на площадь? Как погиб предатель Майборода? Все это читается на одном дыхании, как детектив. О том, насколько эта реконструкция обоснована, судить специалистам. В любом случае в фокусе оказывается яркая и противоречивая фигура — Павел Иванович Пестель. Он и прежде был декабристом №1, а перенос центра тяжести на военную организацию делает его роль исключительной.
Пестель оказывается по многим параметрам удивительно похож на Ленина и его сподвижников: удивительное сочетание идеализма и цинизма, устремленности к небывалому с маккиавелистской изворотливостью. Небывалое для Пестеля — это абстрактное «правильное» демократическое государство, путь к которому лежит, само собой, через путч и диктатуру. Если действия Ленина стали, по мнению Данилкина, «моделью для стран Третьего Мира», то в самой фигуре Пестеля есть нечто, напоминающее революционеров Нового Света, таких, как Симон Боливар; не исключено, что его победа зашвырнула бы феодально-сословную Россию именно в условно «латиноамериканскую» реальность (где, впрочем, она в конечном итоге и оказалась).
Все остальные герои книги — нервный писатель Рылеев, переживающий под следствием религиозное обращение; честолюбивый молодой партийный интриган Бестужев-Рюмин; доблестный республиканец Юшневский; даже симпатичный Сергей Волконский, не желающий «вписываться в какие бы то ни было рамки, будь то рамки общественные, сословные, служебные, конспиративные или рамки, определяющие жизнь политического преступника, сибирского ссыльнопоселенца», энергичный, не сломленный каторгой, — кажутся рядом с героическим негодяем Пестелем бледноватыми.
 Николай Троицкий. Софья Львовна Перовская. М.: Common place, 2018
Николай Троицкий. Софья Львовна Перовская. М.: Common place, 2018
Как сообщает предисловие к изданию, датированному уже следующим годом, «книга Н. А. Троицкого — это не холодный бесстрастный анализ фактов и событий. Он не признавал безличной истории, искренне любил своих героев и героинь». Другими словами, перед нами не попытка осмысления, а восторженная апология террористки. Вот лишь одна цитата:
«С 1991 года наша страна идейно, социально и политически изменилась. Герои прошлого — народолюбцы и тираноборцы — обесславлены, а каратели и душегубы становятся героями. Николай II Кровавый и реакционное чудовище Александр III прославлены, Александр II возвеличивается односторонне — как „освободитель”, при гробовом забвении другой его стороны — как „вешателя”».
Троицкий умер в 2014 году в возрасте 83 лет. Он историк еще советской школы. Но и в советское время ему не удалось бы издать такую книгу — стопроцентно реабилитирующую народовольцев (и особенно их прекрасную предводительницу) не только морально, но и практико-политически:
«Царизм хоть и выбрался из острого „кризиса верхов” 1879–1881, отразил революционный натиск тех лет и подавил „Народную волю”, так и не смог, несмотря на все репрессии контрреформы Александра III, восстановить устойчивость своего режима. Новое поколение революционеров (большевики, меньшевики, эсеры и воспрявшие духом либералы, кадеты, октябристы, трудовики) общими усилиями довели дело до конца: царизм пал».
Праздник, праздник — у всех, от большевиков до октябристов! Когда это написано? В марте 1917?
Конечно, появление сейчас книги, настолько свободной от всякой рефлексии, — курьез. Но и это косвенно подтверждает живость и актуальность в нынешней России проблем и эмоций, связанных с революцией.