«Многие теперь уверяют, что большевики работают на монархию?»
Валерий Шубинский о мемуарах и дневнике трех второстепенных героев ушедшей эпохи
Всеволод Стратонов. По волнам жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2019
Астроном
Едва ли нужно сегодня подчеркивать важность «человеческих документов» — дневников и мемуаров деятелей второго и третьего рядов, а то и представителей «молчаливого большинства». К последним астронома Всеволода Викторовича Стратонова, военного деятеля Александра Михайловича Сиверса и музыканта (и, по собственному определению, «стихотворца средней дрянности») Алоя (Алоиза) Федоровича Крылова отнести никак нельзя: все трое были людьми амбициозными. В разной степени осуществившими свои амбиции, правда.
Эпохи им тоже выпали различные: Стратонов и Сиверс почти ровесники (1869-го и 1868 г. р.) — Крылов же родился в год, к которому относится последнее свидетельство о Сиверсе (1932), а умер всего пять лет назад. Наконец, разные жанры: аутентичный дневник в случае Сиверса и Крылова, поздние мемуары — у Стратонова.
Но самое главное — разные люди.
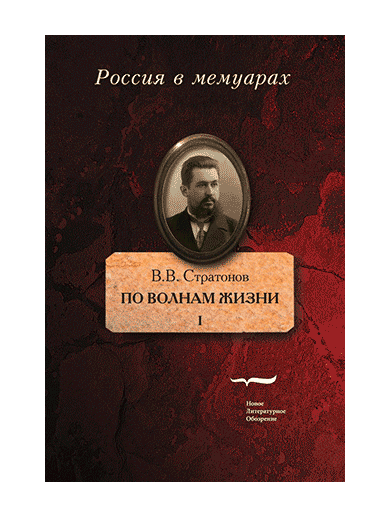 Стратонов — самый яркий из трех. Видный ученый, который, однако, периодически меняя науку на чиновничью и банковскую службу, непоседливый, а иногда и неуживчивый человек, много ездивший (география записок: Екатеринодар, Одесса, Кавказ, Туркестан, Муром, Тверь и, конечно, Москва и Петербург), наблюдательный, хорошо владеющий пером. Поэтому читать его увлекательно: и про эксцентричных гимназических преподавателей в Екатеринодаре, и про одесский Новороссийский университет, и про колоритного градоначальника адмирала Зеленого, и про ученые экспедиции на Кавказ…
Стратонов — самый яркий из трех. Видный ученый, который, однако, периодически меняя науку на чиновничью и банковскую службу, непоседливый, а иногда и неуживчивый человек, много ездивший (география записок: Екатеринодар, Одесса, Кавказ, Туркестан, Муром, Тверь и, конечно, Москва и Петербург), наблюдательный, хорошо владеющий пером. Поэтому читать его увлекательно: и про эксцентричных гимназических преподавателей в Екатеринодаре, и про одесский Новороссийский университет, и про колоритного градоначальника адмирала Зеленого, и про ученые экспедиции на Кавказ…
Но, пожалуй, больше, чем замеченные Стратоновым колоритные сценки, говорит он сам, его оптика. Вот, к примеру, национальный вопрос. Стратонов почти про всякого нерусского персонажа не забывает уточнить этническую принадлежность: армянин, татарин, еврей, поляк, немец. Причем евреи разные — и «европейские», и горские, и бухарские. Но стереотип — один: «К ужину вдруг появляется особый местный тип — горский еврей. Одежда — обычная черкеска с газырями и кинжалом; но лицо вполне сохранило еврейские черты. При нашем прибытии, пока фанатики отплевывались, он сейчас же смекнул о гешефте: наловил в речонке форелей. Принес и отдал по двугривенному за рыбку». Впрочем, по-настоящему антисемитские ноты появляются у Стратонова (как у многих) лишь при описании послеоктябрьских событий: его возмущает, например, наличие в Наркомнаце еврейского отдела («как будто они и без того повсюду не главенствовали»).
С другой стороны, научные конфликты в среде астрономов (которые Стратонов описывает с большим увлечением — ему вообще нравится говорить о конфликтных ситуациях, такой уж у него характер) тоже оказываются этнически окрашены: сложные взаимооотношения Струве, Бредихина и других коллег описываются им как борьба «русской» и «немецко-шведской» партий.
Очень интересно описание Туркестана. С одной стороны, русские колонизаторы развращают благородных дикарей-сартов (оседлых узбеков):
«В первые годы жизни в Ташкенте нам не раз приходилось наблюдать, с каким презрением, иногда отплевываясь, оглядывали сарты валявшихся под заборами или на тротуарах тела упившихся русских переселенцев. А потом… приходилось видеть пьяными и самих сартов… В ту же пору и на базаре — и вообще во всем укладе туземной жизни — поражала, — как уже упоминалось, честность населения… Бывало тогда на базаре, что, например, торговец фруктами, уходя ночевать домой, обвивал в один раз свой товар — горку арбузов и дынь — тоненькой, так называемой „сахарной” веревочкой, и он спал спокойно… Потом постепенно, под культивирующим влиянием русских солдат, а особенно начавших приезжать на гастроли кавказцев, из числа специалистов против чужого добра, эта идиллия нравов стала исчезать, и притом быстрее, чем можно было думать. К концу десятилетнего нашего пребывания в Ташкенте от прежней честности мало осталось и следов».
 Но в то же время русские астрономы привлекают аборигенов к научной работе, читают им лекции, раскапывают обсерваторию Улугбека. Уже в советское время Стратонов возвращается в Туркестан, чтобы участвовать в создании там университета.
Но в то же время русские астрономы привлекают аборигенов к научной работе, читают им лекции, раскапывают обсерваторию Улугбека. Уже в советское время Стратонов возвращается в Туркестан, чтобы участвовать в создании там университета.
Примечательно, что именно в послереволюционный период (1917–1922) ставший было чиновником Стратонов возвращается к активной научной работе. Впрочем, он успевает снова побыть и администратором — уже на службе новой власти. Возможно, непримиримый антисоветский пафос у него (как у многих эмигрантов) носит отчасти защитный характер: Стратонову (почти случайно попавшему в число пассажиров «философского парохода») хочется закамуфлировать свое сотрудничество с большевиками. Сотрудничество было немалым: Стратонов — один из основателей Астрофизического института, позднее получившего имя ученого-большевика Павла Карловича Штернберга. Стратонов описывает его с глубоким презрением («в Штернберге чувствовалось нечто дегенеративное, и, может быть, в этом — корни его политического надлома»), путает его имя, искажает биографию (якобы «до революции он был скорее правым» — между тем Штернберг был членом РСДРП с 1905-го) и отрицает научные заслуги.
Работу на «Совдеп» астроном одним ставит в вину (Чаянову), другим прощает (художнику Коровину и, конечно, себе) — но к кому он беспощаден, это к офицерам, пошедшим в Красную Армию, особенно к генштабистам. Тем интереснее перейти от его мемуаров к дневнику вступившего в Красную Армию царского генерала.
Александр Сиверс. Дневник 1916–1919. М.: Кучково поле, 2019
Генерал
Дневник генерал-лейтенанта Александра Михайловича Сиверса начинается в 1916 году. Мы сразу же видим совсем иной тип человека: не любознательный и инициативный исследователь, а кадровый военный, всецело погруженный в свою профессию. Политика интересует его с точки зрения армейского строительства и управления (остальное же и вовсе не интересует).
Итак, конец 1916-го, и на фронте все уже неблагополучно.
«Не могу понять, почему немцы так легко овладевают нашими окопами, а мы не можем нигде их одолеть, несмотря на то, что мы во много раз сильнее числом? Весной все были полны надежд. После отсутствия снарядов — стали давать. Правда, не в безграничном количестве, как у французов, но все же почувствовалось, что недостатка не будет…
У меня все больше и больше является чувство, что мы начинаем утрачивать сознание серьезности войны. Появляется манера взаимоотношений мирного времени — создание карьеры, отписка, дабы было бумажное оправдание (документ), нежелание договориться, выслушать объяснения, а отстранять лиц, почему-либо не угодных…
Особенно несерьезное отношение в государственном тылу: там идет какая-то вакханалия, полная разнузданность. Насколько в первый период войны у всех было сильно чувство и сознание необходимости „все для войны, все для победы”, настолько теперь безудержно проповедуется — „рви что можешь”. Печально и опасно».
Как все, Сиверс приписывает неудачи окопавшимся в тылу «темным силам», с интересом фиксирует думскую речь Пуришкевича, предшествующую убийству Распутина, касается деталей самого убийства… но вот события идут по нарастающей, Николай отрекается, и генерала (человека правых взглядов) начинают посещать сомнения:
«Кто поручится, что вся разруха… отсутствие хлеба и топлива, может, и других предметов, а также „паралич” железных дорог не был подготовлен революционными силами? Все говорили про „темные силы”, а не было ли все это делом рук хорошо организованного „движения”? В отсутствие царя, при действительно слабом правительстве, при армии, занятой на фронте, исподволь готовилась революция. Кто все это знает? Начинают появляться газеты, из них начинают вылепляться «новые» нестерпимые порядки. Революция выдвинула новое слово — „в согласии”. Обидно, что новый режим, новое правительство должно считаться и работать „в согласии” с исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. От этого ожидать добра трудно».
 И дальше — описание прогрессирующего распада. Здесь много мрачно-колоритного. От посещающих армию и организующих «полковые комитеты» комиссаров Временного правительства до диких сокращений (инспартарм — инспектор артиллерии армии; дегенарм — дежурный генерал армии, а не то, что приходит в голову; наконец, переживший октябрь 1917-го командарм). Генералу не нравятся уставные новшества — в том числе необходимость называть солдат (б. «низшие чины») на «вы». Октябрьский переворот становится апогеем распада, но вселяет и некие надежды. («Оригинально то, что большевики выпускают крайних правых, например Дубровина. Говорят, на очереди освобождение Пуришкевича и царских министров. Какая-то связь между ними и монархистами. Есть в этом что-либо настоящее, как многие теперь уверяют, что большевики работают на монархию?»).
И дальше — описание прогрессирующего распада. Здесь много мрачно-колоритного. От посещающих армию и организующих «полковые комитеты» комиссаров Временного правительства до диких сокращений (инспартарм — инспектор артиллерии армии; дегенарм — дежурный генерал армии, а не то, что приходит в голову; наконец, переживший октябрь 1917-го командарм). Генералу не нравятся уставные новшества — в том числе необходимость называть солдат (б. «низшие чины») на «вы». Октябрьский переворот становится апогеем распада, но вселяет и некие надежды. («Оригинально то, что большевики выпускают крайних правых, например Дубровина. Говорят, на очереди освобождение Пуришкевича и царских министров. Какая-то связь между ними и монархистами. Есть в этом что-либо настоящее, как многие теперь уверяют, что большевики работают на монархию?»).
На досуге Сиверс обдумывает планы воссоздания армии и с интересом присматривается к усилиям советских властей в этом же направлении. Без всяких комментариев воспроизводит, к примеру, речь Володарского:
«…Нас упрекают за то, что мы призываем в Красную армию генералов, которых мы вымели железной метлой. Нас спрашивают теперь: зачем же было выгонять? Для того, отвечаю, чтобы офицерство сознало, что его привилегии — нуль, чтобы оно, пройдя через унижение, через продажу газет на улицах, сознало, что все зависит от народа, который все может дать и все может отнять…».
Но даже и на таких условиях многие офицеры и генералы идут служить большевикам — и Сиверс в их числе.
К каждой части своего дневника Сиверс подбирает эпиграфы — немудреные пословицы. К дневнику 1918–1919 эпиграфы такие: «С кем поведешься, от того и наберешься. Мы многого порой боимся, пока к нему не приглядимся. Не все, что дозволено, — прилично». Понимай как хочешь…
Собственно, мотивация проста: вера в то, что большевики — сила. Дальше это интерпретируется удобным для себя способом: человек примыкает не просто к силе, а к силе, готовой и способной объединить и спасти Россию. Интересно, что если в Стратонове революция пробуждает антисемитизм, то Сиверс, до октября 1917-го изрядный юдофоб, с этого момента совершенно забывает о существовании «жидов» и отводит душу на масонах — на их роли в свержении царской власти и погибели России (это безопаснее). На последних страницах дневника перед нами опять погруженный в дела военного строительства профессионал — но, конечно, жизнь изменилась. Военспецу в условиях военного коммунизма приходится думать о пайке, запасаться картофелем и мучительно переходить на новую орфографию. В конце концов это ни от чего его не спасло — он был арестован в 1931 году по делу «Весны» и, видимо, умер в ссылке в Ярославле.
Конспект жизни Алоя Федоровича Крылова (1954–1970 гг.). Публ. О. Берловской. Вступ. статья О. Берловской и М. Мельниченко. М.: Common Place, 2019
Музыкант
 Алой Крылов
Алой Крылов
Алой Крылов — персонаж из-за другой стороны зеркального стекла, человек советской выделки, старого мира не помнящий и не представляющий. Если Стратонов ученый, а Сиверс — военный, то Крылов — человек искусства. При том человек средних способностей, считающий себя «великим неудачником». На деле же его неудачливость лишь в месте жительства (индустриальный городок в Сибири — Северск) и времени рождения. Вот каково формирование будущего музыканта:
«Меня усыпляла мать со словами
Баю-бай, баю-бай,
Ты, собачка не лай,
Ты, корова не мычи,
Ты, петух, не кричи.
В яслях на патефоне играли „Зимний вечер” и „Зимнюю дорогу” Пушкина. Я пел „то как зверь, она заводит”, убежденный в том, что кто-то заводит патефон. Мои товарищи пели „То как звери на заводе”, имея в виду маслобойный завод, видимый из окошка. Эти мелодии для меня так же сокровенны, как мелодии из дней моей любви. В яслях же я слышал две песни Беранже − „Легендарный король” и „Подхалим”. Мелодии и слова их я запомнил на всю жизнь, но совсем недавно понял их веселый смысл… Проведя детство в сибирской деревне, я не знал рояля и скрипки, но знал балалайку».
Все это даже трогательно, но, конечно, автор — самоучка поневоле. Тем не менее он довольно быстро профессионализируется. Свои немудреные стихи и прозу ему тоже удается напечатать. Дальше перед нами жизнь провинциального «творческого интеллигента», удивительно бедная событиями и пресная — и описанная пресным языком:
«Сначала мне пообещали месяц отдыха. Потом заявили, что прибавят три дня к двум неделям — за три месяца лагеря. Потом не дали и трех дней — пообещали отгулов. Потом зажали и отгулы — можешь взять только без содержания. Потом, когда я спросил, сколько же дней можно взять без содержания, был ответ: «ни одного». И это — в профсоюзной организации, святой долг которой — защищать права каждого трудящегося, где бы он ни работал. Везде бардак, но такого бардака, как в ДК имени Островского, поискать».
Видимо, это тянулось годами, десятилетиями. Перемены, сопоставимые с теми, свидетелями которых были Стратонов и Сиверс, случились уже за хронологическими рамками дневника.
Крылов пытается рассуждать на общекультурные темы — и сразу бросается глаза его провинциальная наивность и выключенность из мирового контекста. Он (в 1956 году!) сквозь зубы признает, что «мы вынуждены признать джаз как особый вид искусства» — «его машинные ритмы имеют также свои рисунки, не встречающиеся в истинной музыке». Он рассуждает о политике. На дворе, еще раз напомним, 1956 год, разоблачен культ личности. Вывод Крылова: не мог быть по-настоящему великим человек, любивший такую примитивную песню, как «Сулико». Хрущев совместил должности генсека и предсовмина — и у Крылова наготове следующее несколько фрондерское рассуждение:
«Как бы ни был гениален руководитель, он не способен добросовестно выполнять две нагрузки: и первому министру, и первому коммунисту хватает дел… Впрочем, я не вижу никакой разницы между решениями партии и правительства — те и другие у нас имеют одинаковую силу».
В общем, такой маленький Козьма Прутков из маленького города. А впрочем, во всех нас, советских по рождению людях, сидит «прутковское». Тем интереснее те места, где внезапно проступает другое. Даже на уровне стиля. Вот простая фраза — проще некуда! — а будто Добычин писал: «В городе видел Ларису; она шла под руку с солидным мужчиной, и я понял, что этот солидный мужчина — ее муж». А вот уж нечто не совсем простое: «Сегодня ночью я был Ассурбанипал. Ко мне приходили Рамсес, Навуходоносор, приезжали гиксосы. Все это происходило на задворках сцены. Тут же с удовольствием ели театралы, делая вид, что так надо по ходу действия».
 Ах, если бы Крылов смог как-то остранить свое провинциальное существование, увидеть его другими глазами, эстетически осмыслить! Но все было против этого: и масштаб способностей, и масштаб личности, и обстоятельства. В этом смысле Крылов действительно неудачник. Но какова была бы цена удачи? Мы вспомнили о Добычине, а можно — о другом писателе, который родился в той же Сибири на пять лет позже и чьи пьесы стоит почитать параллельно с крыловским дневником. В конце концов Алой Федорович, переименовавший себя для красоты в Алоиза, дожил до старости, не утонув ни в Мойке, ни в Байкале. Тоже ценность.
Ах, если бы Крылов смог как-то остранить свое провинциальное существование, увидеть его другими глазами, эстетически осмыслить! Но все было против этого: и масштаб способностей, и масштаб личности, и обстоятельства. В этом смысле Крылов действительно неудачник. Но какова была бы цена удачи? Мы вспомнили о Добычине, а можно — о другом писателе, который родился в той же Сибири на пять лет позже и чьи пьесы стоит почитать параллельно с крыловским дневником. В конце концов Алой Федорович, переименовавший себя для красоты в Алоиза, дожил до старости, не утонув ни в Мойке, ни в Байкале. Тоже ценность.
Итак, перед нами три русские судьбы: человек, пытавшийся сам строить свою судьбу, человек, плывший по течению, и человек, с которым почти ничего не происходило. Два досоветских человека — и человек советский. Человек разносторонне образованный, интеллектуально узкий профессионал и любознательный самоучка. Человек, объездивший всю Россию, человек из столицы и человек из провинции. Астроном, генерал и музыкант.