Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Евгений Добренко, Наталья Джонссон-Скрадоль. Госсмех: сталинизм и комическое. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Содержание
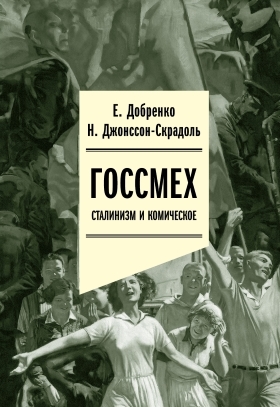 Прилежным читателям «Горького» едва ли нужно объяснять, кто такой Евгений Добренко (а если вы не читали его исследований, посвященных истории советской литературы и культуре сталинизма, то советуем вам принять меры). Чтобы оценить антисталинистский пафос Евгения Александровича, нет нужды быть внуком Николая Сванидзе: его метод заключается в экспликации глубинных механизмов сталинизма, которые не только обеспечивали бесперебойную работу бездушного государства «рабочих» и «крестьян», но и отравляли по мере сил наше с вами будущее. К числу любителей красивых, но собранных за гаражами теорий Добренко не относится — все его обобщения вытекают из глубокой проработки огромного количества материалов, и в первую очередь литературы сталинского периода, 95% которой сегодня никто в своем уме не возьмет в руки.
Прилежным читателям «Горького» едва ли нужно объяснять, кто такой Евгений Добренко (а если вы не читали его исследований, посвященных истории советской литературы и культуре сталинизма, то советуем вам принять меры). Чтобы оценить антисталинистский пафос Евгения Александровича, нет нужды быть внуком Николая Сванидзе: его метод заключается в экспликации глубинных механизмов сталинизма, которые не только обеспечивали бесперебойную работу бездушного государства «рабочих» и «крестьян», но и отравляли по мере сил наше с вами будущее. К числу любителей красивых, но собранных за гаражами теорий Добренко не относится — все его обобщения вытекают из глубокой проработки огромного количества материалов, и в первую очередь литературы сталинского периода, 95% которой сегодня никто в своем уме не возьмет в руки.
Новая книжка Добренко, написанная в соавторстве с Натальей Джонссон-Скрадоль, вносит существенные коррективы в мейнстримные представления о функциях и бытовании советского комического, которому с давних пор принято приписывать низовую субверсивность: сталинизм, впрочем, был не чужд карнавала, только карнавал этот был государственным и работал на укрепление, а не на подрыв властных институтов и практик. Хорошая иллюстрация — сталинские сатирические комедии, бичующие пороки отдельных представителей номенклатуры: считалось, что в этих произведениях выводятся социальные «типы», однако они сильно отличаются от того, что в советских учебниках принято было называть типами у Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Если сатира XIX века типизировала героев, чтобы показать ущербность социального устройства в целом, то сталинская сатира их специфицировала, чтобы отдельный бюрократ-очковтиратель ни в коем случае не ассоциировался с номенклатурой в целом и не наводил на мысли о недостатках породившей его государственной системы, но работал бы всегда только на ее укрепление и прославление. Стоит ли говорить, что в результате сатирические комедии, сочинявшиеся многочисленными лауреатами Сталинских премий, напоминали встречу швейной машинки и зонтика на столе председателя колхоза «Красное вымя» — если не верите, то можете ознакомиться, например, с радиопостановкой «Факира на час» (сама комедия подробно анализируется Евгением Добренко в седьмой главе книги). Мало не покажется.
«То же самое можно сказать о Дыховичном и Слободском, написавших вместо фельетона „благородную сатиру“, в которой нет ни сатирических типов (бюрократ излечивается от бюрократизма, как заика — от заикания), ни „негативных явлений“, но лишь хорошие люди и отдельные легко исправляемые недостатки. Сатира образца 1945 года говорит о том, что все плохое, что окружает советского человека, результат „гипноза прошлого“ — неверия в людей. Гоголь, видевший в своих героях сплошные „свиные рыла“, не увидел в них хорошего. Не такова советская сатира. Ее „благородство“ в том, что она отказывается от сатиры: никчемных работников не надо „снимать и гнать“ — в них надо увидеть хорошее. Всеми героями „Ревизора“ движет страх, тогда как советский „ревизор-факир“, напротив, всех „излечивает“ от страха».
Никола С. Милькович. Три разговора о Поплавском. Поэтика Бориса Поплавского через призму интертекстуальности. Белград: Издательство филологического факультета в Белграде, 2022. Содержание
 Поиск интертекстуальных связей в стихах и прозе Бориса Юлиановича Поплавского — задача увлекательная, но не самая простая. С одной стороны, видна невооруженным глазом глубочайшая укорененность его творчества в европейской художественной традиции: искать у Поплавского аллюзии на шедевры прошлого — одно удовольствие. С другой стороны, энигматичная лирика Бориса Юлиановича в своих наиболее радикальных проявлениях устроена таким образом, что бывает трудно отличить сознательную отсылку от случайной ассоциации, порожденной воспаленным разумом поэта, на протяжении всей сознательной жизни употреблявшего психоактивные вещества.
Поиск интертекстуальных связей в стихах и прозе Бориса Юлиановича Поплавского — задача увлекательная, но не самая простая. С одной стороны, видна невооруженным глазом глубочайшая укорененность его творчества в европейской художественной традиции: искать у Поплавского аллюзии на шедевры прошлого — одно удовольствие. С другой стороны, энигматичная лирика Бориса Юлиановича в своих наиболее радикальных проявлениях устроена таким образом, что бывает трудно отличить сознательную отсылку от случайной ассоциации, порожденной воспаленным разумом поэта, на протяжении всей сознательной жизни употреблявшего психоактивные вещества.
Сербский исследователь Никола Милькович в «Трех разговорах о Поплавском» отважился применить к экспериментальному творчеству одного из ключевых авторов русской эмиграции ультратрадиционный метод анализа и интерпретации поэтических текстов. Милькович тщательно кодифицирует круг чтения Бориса Юлиановича — осложняется это тем, что его личная библиотека, увы, не сохранилась, а его собственные тексты являются единственным источником, по которому можно установить читательские интересы писателя. В итоге мы обнаруживаем, что поэтику Поплавского формировали не только и не столько символисты и декаденты, сколько античные и русские классики в диапазоне от Катулла до Пушкина.
Наиболее интересные страницы монографии посвящены тому, что удивительным образом Борис Поплавский оказывается не таким уж одиноким в своих поисках. Хотя его связи с Россией были разорваны эмиграцией, Милькович замечает, что каким-то образом эстетические поиски Поплавского шли в том же направлении, что и поиски, скажем, обэриутов. Особое внимание в книге также уделено рефлексиям Бориса Юлиановича по поводу России и своей русскости — переживания по этому поводу у писателя были тяжелейшие.
«Большинство писателей-эмигрантов в своих произведениях вспоминают Россию, жалеют о потерянном доме и питают надежду на возвращение (Бунин, Газданов, Ремизов, Зайцев, Шмелев и др.). Ю. В. Зобнин делает вывод, что „старшее поколение литераторов-эмигрантов жило элегическим вечным „вчера“, а идущее за ним молодое поколение — драматическим вечным „сегодня““, однако всегда встает вопрос, можно ли проводить такие резкие границы, так как на примере русской эмиграции в Париже видно, что творчество „старших“ и „младших“ очень часто ничем не отличается.
У Поплавского тоже чувствуется определенная тоска по родине, об этом в его дневниках есть записи: „Если личная жизнь мне не удастся, я требую от себя не винить в этом эмиграцию и на нее все не сваливать. Гамлет жил на родине и Вертер тоже, и оба не имели извинений, следственно, и я должен не искать их“».
Джудит Батлер. Сила ненасилия. Сцепка этики и политики. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. Перевод с английского Инны Кушнаревой. Содержание. Фрагмент
 Центральный тезис последней — на текущий момент — книги американки можно сформулировать примерно следующим образом: насилие против другого — это всегда насилие против самого себя, потому что ни один человек не существует сам по себе, он всегда вписан в узы социального. Иными словами, насилие — это всегда насилие против социальности, и необходимо помыслить общество, построенное на иных принципах, чем сейчас, а именно — на ненасилии.
Центральный тезис последней — на текущий момент — книги американки можно сформулировать примерно следующим образом: насилие против другого — это всегда насилие против самого себя, потому что ни один человек не существует сам по себе, он всегда вписан в узы социального. Иными словами, насилие — это всегда насилие против социальности, и необходимо помыслить общество, построенное на иных принципах, чем сейчас, а именно — на ненасилии.
Однако и само ненасилие нуждается в переосмыслении: Батлер разумно предполагает, что гнев и агрессия суть неотъемлемые части человеческого, поэтому ненасилие должно стать частью агрессивного сопротивления.
На возможную критику некоего отрыва ее суждений от реальности, философ закономерно парирует, что критикует саму реальность, чью социальную пластичность, по Батлер, мы недооцениваем. Разумно, но во времена, когда социальная реальность давит железной пятой, несколько прекраснодушно.
«Связи, потенциально соединяющие нас поверх зон геополитического насилия, могут быть неизвестными и хрупкими, несущими в себе патернализм и власть, но их можно укрепить посредством трансверсальных форм солидарности, которые оспаривают приоритет и необходимость насилия».
