Мастерство делать больно без резких уколов
Лев Оборин — о четырех поэтических новинках этой осени
Кадр из фильма «История призрака», 2017 / © А24
Стихи о поисках неодиночества, гадательная книга верлибров, выдержанная атмосфера сюжетного макабра и бесконечно неловкий жанр в исполнении живого классика американской литературы — Лев Оборин рассказывает читателям «Горького» о четырех любопытных поэтических новинках.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Юлия Закаблуковская. И маленькие гладкие собачки. М.: ЛитГОСТ, 2025
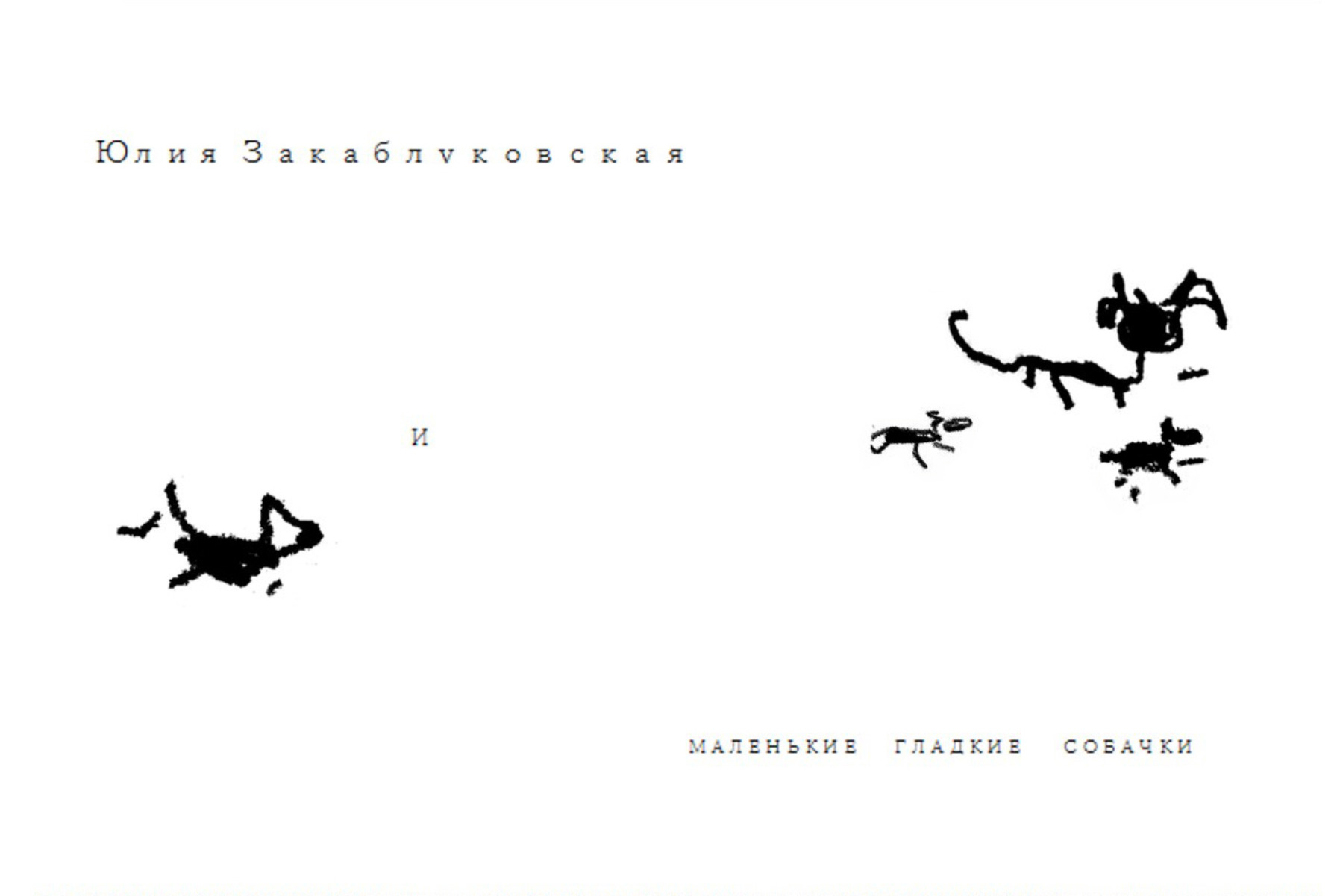
С первого же стихотворения этого маленького сборника мы погружаемся в интонацию ласковой странности и как следует ею пропитываемся к концу. Второй раздел книжки как раз называется «Странный звук-душа».
Это очень эмпатичные стихи. Сочувствие к Дон Кихоту легко трансформируется в сочувствие к найденным на дороге щенкам или оставленным у тротуара самокатам; близорукость заставляет увидеть в голубе, перелетевшем с ветки на ветку, «какой-то сугробик», который «оторвался от большой сугробовой Родины»; другая птица — «бедная моя истеричка, / птичка-анорексичка» — вообще в своем личном верещании оказывается важнейшим элементом мироздания. Приметы детства выплывают из импрессионистского тумана, чтобы поймать секундное распознавание-умиление читателя и тут же измениться до неузнаваемости.
не ходите в музеи, мой друг, моя дру́га,
там чучелá толпятся в полный рост,
смеются воск и волк и облетает память.
купите лучше в декабре кусочек ваты
в виде снегиря или матроса,
и пусть болтается себе на лысой ветке
аж до февраля. и будет вам неодиноко
Собственно, неодиночество — взыскуемое в этих стихах состояние. О нем говорят встретившиеся на пространстве переписки Иван-Дурак и Сэмюел Беккет, о нем сокрушается героиня, которую забыла старая подруга, о нем героиня усмехается, встретив воображаемого Другого: «женщина, отойдите от зеркала — вы здесь не одна. / я знаю, противная моя, я знаю». Но даже если Другой только в зеркале, несколько сочувственных слов для него найдется.
В целом почти каждое стихотворение Закаблуковской — небольшой поток, из которого при цитировании не получается что-то извлечь, не повредив его ткани. Исключение — «Отрывок», специально устроенный фрагментарно, не просто с нумерацией частей, но и с лакунами в этой нумерации. Эти тексты кажутся соразмерными даже не читателям — всякие бывают читатели, — а тем, о ком они написаны, в том числе «маленьким гладким собачкам». Сочувствие без излишней аффектации, без снисходительности, с видимой заботой поиска нужного слова — качества, которых можно ожидать от психолога или вообще от врача. Здесь их произносит поэтесса — она не обращается к нам напрямую, но у ее слов инклюзивные траектории. В последнем тексте сборника упомянут художник Вселенский — такую фамилию в одном из своих стихотворений берет себе Василий Бородин, поэт, обладавший поразительным даром сочувствия. Может быть, его имя — один из ключей к книге Юлии Закаблуковской.
Валерий Земских. 52 герца. СПб.: Радуга, 2025
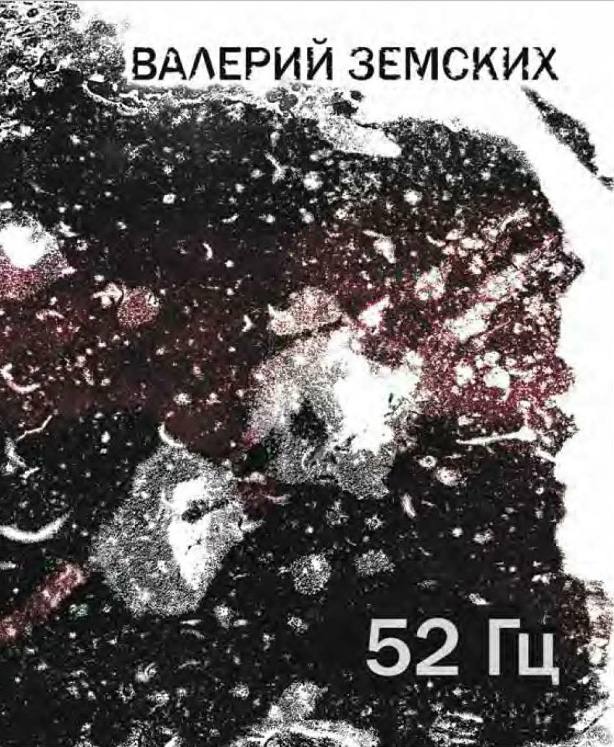
Большое собрание коротких стихотворений петербургского поэта, по преимуществу верлибров. Читать можно с любого места, это практически гадательная книга. Основная ее эмоция — принятие жизни, в которой не за что толком ухватиться, которая иллюзорна и в чьи свойства не входит эмпатичность. Жизнь эта почти истекла: «Не получилась жизнь / Как обычно / Может смерть окажется интересней / Жаль что не увижу / Буду занят / А гадать дурной тон» — но из других текстов следует, что и посмертие не лучше знаменитой байки с пауками. Иногда иллюзорность, безысходность и конечность постулируются открыто («Все физика мой друг / Все физика // А физика / Ну знаешь сам / Иллюзия», «Нет повода жить / Но и повода нет умирать»), иногда — с помощью изящных метафор:
Бредем по пустыне
За нами ни начала
и ни конца
Ветер переносит дюны
И засыпает нас
Чистым листом песка
Для такой позиции характерны скупой вокабуляр, минималистически аранжированный стих, временами приближающийся к всеволод-некрасовскому («Где-то / Когда-то / Что-то // О чем это / И дальше тишина») или ахметьевскому («Мы думали / А зря»). Это такое мастерство делать больно без резких уколов — а когда уколы все-таки наносятся, то производят должный эффект: «Гвоздь по ошибке забили в горло / Что собирались прибить / Некому вспомнить / Ржавая кровь течет по рубахе». Или, в другом ключе, «Чистилища больше нет / Все испачкано» — несмотря на то, что все засыпается песком и доминирует усталое приятие, силы на игру слов остаются.
Чем дальше, тем депрессивнее становится книга; допустим, текущая военно-политическая реальность — еще повод для жутковато отрешенной сентенции: «Войны были всегда / Так устроен мир / Будь что будет / Посмотрим кто победит / Не волнуйся убьют и тебя», но реальность эта так воздействует, что резкий уход на эмоциональное дно возможен почти из любой точки: «Поднял из пыли листок / А на нем / Нарисована смерть». Впрочем, молодому человеку можно успеть крикнуть:
Мальчик ты куда
Там стреляют
Там красивых людей превращают в кровавое месиво
Эти игры не для тебя.
Иллюстрации к книге — мрачные черно-белые фотоколлажи (в качестве контраста к названию издательства «Радуга»; как говорится в анекдоте, вот такое хреновое лето). На коллажах — смятые страницы, окрашенные стены, проступающие портреты автора, фрагменты фотографий ню; последнее, вероятно, намек на обнажение приема. 52 герца — это, если что, частота, на которой пытается общаться с миром самый одинокий кит в мире: никто из его сородичей не способен воспринимать такие звуки.
Константин Матросов. Свалка манекенов. М.: Синяя гора; Саратов: Амирит, 2025
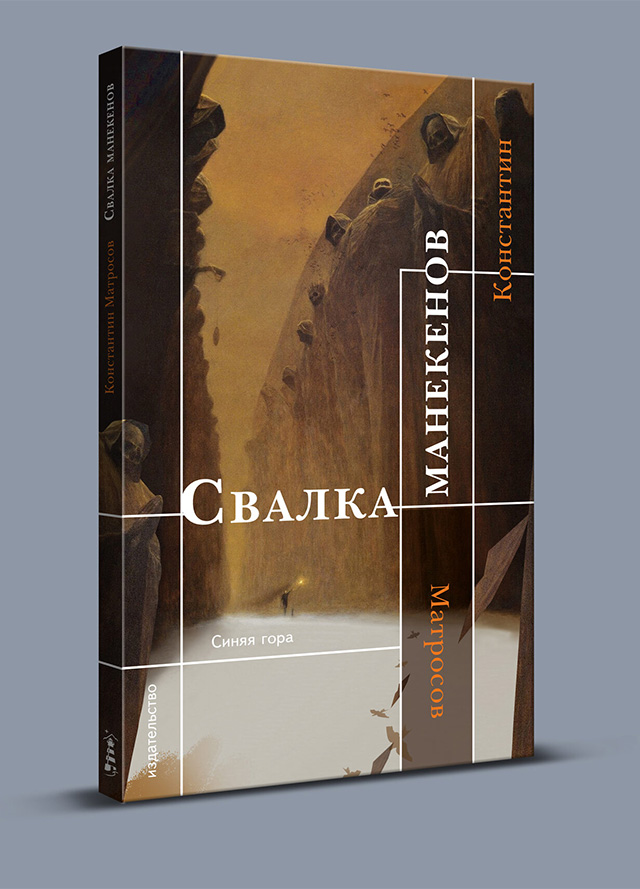
С одной стороны, посмотришь — здесь неловкость на неловкости. Неправильные ударения: «гло́жа», «взапуски́». Стилистические несуразицы («вилку взяв в щепоть»: щепоть — это сложенные концами вместе три пальца, вилку так не берут; «последний картофель» — в смысле «картофелина»; поезд, «бегущий по сырым опавшим листьям» — идея понятна, но деревья обычно находятся от рельсов на таком расстоянии, что листья на полотне не скапливаются). Фразы, через которые трудно продраться: «Руины юности, руины школы / Так много значили тогда, должно быть, / Для замолчавшей в этот час ее», «Выталкивает стекла окон газ».
А с другой стороны, запоминается книга не этим, а последовательно выдержанной атмосферой макабра, причем макабра сюжетного. Давно не читанным русским бодлерианством, которому в России отдали дань и символисты, и акмеисты — неспроста Матросов часто выбирает форму сонета. В обращении к «шок-контенту» Матросов идет вслед за Сологубом, Зенкевичем, Нарбутом.
Я не люблю беременных. Внутри
У них, заключены в кровавый кокон,
Осклизлые гниют нетопыри
Во мгле бурлящей без дверей и окон.
Их там повесил дозревать Харон
В пути обратном между берегами.
Как страшен плод, как жутко виснет он
Вверх согнутыми кое-как ногами!
И так далее: тараканы пьют грудное молоко жены на глазах у мастурбирующего мужа, во рту у человека вместо языка оказывается осклизлая сороконожка, женщина смотрит в водоворот стиральной машины и вспоминает недавно утонувшую дочь… Описано зримо, рифмы изобретательно въедливы, вывод если и подразумевается, то какой-то нутряной, на уровне ощущения. Во всем этом много подлинно невротического — хотя если хочешь создать хтонический ужас, не нужно напрямую его называть «хтоническим ужасом», как это происходит в стихотворении «Шелухи» (а начиная нагнетать зловещую атмосферу, стоит вовремя остановиться, а то будет уже не страшно).
Но в текстах, кажущихся более тусклыми, поэт проговаривается о вещах более тяжелых — например, о снах и желании остаться в них навсегда. Если говорить просто, за лирическим «я» здесь ощутим страдающий автор, и это вызывает сочувствие. В свете этого по-другому прочитывается и стилистическая неловкость многих текстов — она как будто отвечает характеру говорящего, который бросил вызов собственным страхам. И если от каких-то текстов хочется только покачать головой (скажем, стихотворение, которое во всех подробностях живописует пытки, учиненные ребенком над плюшевым мишкой) — то заглавная «Свалка манекенов», родившаяся из яркого и болезненного зрительного образа, производит, невзирая на длинноты, то гнетущее впечатление, ради которого стихи и писались:
Лишенные примет и черт особых, лица
Желают меж собой в одно созданье слиться.
Дождь капает на них, пустые лужи вспенив.
Лежит во тьме густой концлагерь манекенов.
К прохожему сквозь тьму протягивает руки
Чудовище: «Спаси, избавь меня от муки!»
Но только вздрогнет он и боком, неуклюже
Помчится, бедный, прочь, разбрызгивая лужи.
Есть тут и баллады с нетривиальной строфикой, и поэмы. Среди удач книги — два текста об Иване Тургеневе. В одном он охотится со Львом Толстым, в другом — появляется лишь на секунду в толпе, наблюдающей за казнью преступника; убитый вальдшнеп «рифмуется» с казненным преступником. Вообще там, где появляются у Матросова животные, вместе с ними приходит какая-то дополнительная нота, поднимающая текст на новый уровень. Будь то страшилка об умершем коте или ремейк притчи о людях, ощупывающих слона.
Рон Паджетт. Избранное. Албанский дневник. Стихотворения / Перевод с английского Андрея Сен-Сенькова. М.: Soyapress, 2024
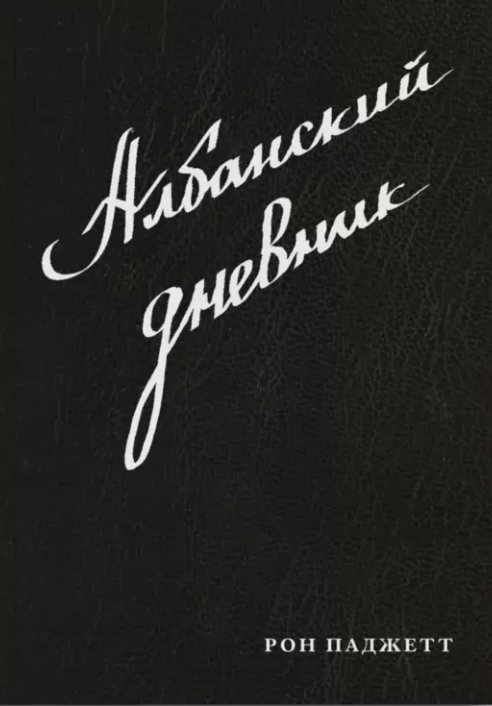
Рон Паджетт — американский живой классик, один из лидеров нью-йоркской поэтической школы. Первая его книга на русском состоит из двух частей — травелога и избранных стихотворений. В первой части — хорошо знакомый и бесконечно неловкий жанр: отчет о поездке группы литераторов в некоторую страну. Литераторов прекрасно принимают — а после этого нужно что-то написать. Комизм ситуации в том, что про Албанию, куда Паджетту предлагают отправиться с коллегами, он ровным счетом ничего не знает (в том числе где она находится). Путает ее с Алабамой.
На дворе тем временем 1995 год, Албания только недавно начала оправляться от десятилетий диктатуры Энвера Ходжи и осознавать туристический потенциал сотен тысяч бетонных бункеров, которыми параноик Ходжа усеял страну. Бедность и балканское гостеприимство, от которого американские поэты страшно смущаются. Их закармливают до потери пульса. Возят на экскурсии и торжественные заседания. Паджетт все это протоколирует, вплоть до точного времени. «Следующая выступающая — тринадцатилетняя девочка, которую выбрали за ее способность говорить по-английски после всего одного года обучения. Она читает по-английски несколько произведений Лонгфелло (одно из них — пространная похвала албанскому герою Скандербегу), одно стихотворение Роберта Фроста и одно — Сэндберга. Ее длинное и маловразумительное чтение заставляет неанглоязычную публику возобновить болтовню и хождение по залу». За анекдотами и межкультурными барьерами скрываются довольно мрачные вещи. У многих албанских коллег Паджетта в семье есть пострадавшие от коммунистических репрессий. Люди только недавно научились открыто об этом говорить. Ну а после краха режима последовал социальный хаос похлеще российских девяностых — собственно, на момент описываемых событий он продолжается.
Все это интересно, трогательно, часто мило и смешно — и подтверждается той авторской позицией, которую можно вычитать из стихов Паджетта. В фигуре говорящего мы видим доброго человека, который даже в memento mori может найти детский уют: «Время / сильней, / но продолжаешь / иллюзорно / ждать, / что оно исчезнет, / как привидение Каспер, / хотя вот он, ждет тебя, / переворачивая страницы комикса, / который ты до сих пор читаешь». Описывая женский портрет датского художника Йенсена, он говорит: «Надеюсь, он был так же счастлив, / как счастлив я, смотрящий на его картину. / Надеюсь, вы видите ее тоже». Своего рода счастливый объективизм; к объективистской школе Паджетт не принадлежал, но и сюрреализма, с которым часто связывают школу нью-йоркскую, тут мало. Ключевой поэт для Паджетта — Фрэнк О’Хара, чьим последним дням посвящено сильное стихотворение. Связь с О’Харой, создавшим монумент американской повседневности, многое в поэзии Паджетта объясняет. Он бывает изящен («Римские цифры»), бывает намеренно тавтологичен:
Астры машут головами и говорят:
«Извините за опоздание, но
нас задержала погода,
из-за чего образовалась большая пробка,
все эти нарциссы, пионы и лилии
впереди нас просто валялись без дела
и занимали слишком много места».
Мы срезаем их, заносим внутрь
и ставим в вазу,
и они стоят
как испуганные восклицательные знаки,
чьи головы взрываются,
как если бы это были цветы.
Последние две строки нам сразу кого-то напоминают, не так ли? Конечно, их переводчика — Андрея Сен-Сенькова, который, будучи превосходным поэтом, обожает такие микросдвиги языковой логики. Другое дело, что здесь есть ошибки, которые нельзя списать на воссоздание странности через нарочитую точность. Например, «исправляют ужин» — в оригинале fixing dinner, то есть попросту «готовят ужин». Сюда же относятся «прошли сквозь», «постригали ногти» и словечко «технически»: то калька, то невнятица. С другой стороны, как минимум в одном стихотворении переводчику отлично удается компенсация: там, где Паджетт рассуждает о раздражающем исчезновении буквы u из слова forty, по-русски находится столь же раздражающее несоответствие между числительным «четыре» и его производными и выбивающимся из этого ряда словом «сорок».