Люди от испуга скушали друг друга
О книге «Террор. Демоны французской революции» Мишель Биар и Марисы Линтон
Французский революционный террор являлся средством удержания власти радикально настроенным меньшинством, проливавшим реки крови до тех пор, пока сам идейный вдохновитель подобной политики, Максимилиан Робеспьер, не был отправлен на гильотину вместе с ближайшими соратниками. Такое упрощенное представление о Великой французской революции зачастую складывается у тех, кто соприкоснулся с ее историей хотя бы на школьном уровне. Историки Мишель Биар и Мариса Линтон, однако, анализируют механизмы, которыми террор приводился в действие, его масштабы и идеологические основания, и рисуют нам более сложную картину, в которой нет места делению на черное и белое, но только разным оттенкам кроваво-красного.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мишель Биар, Мариса Линтон. Террор. Демоны французской революции. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2025. Перевод с французского А. Ю. Кабалкина. Содержание
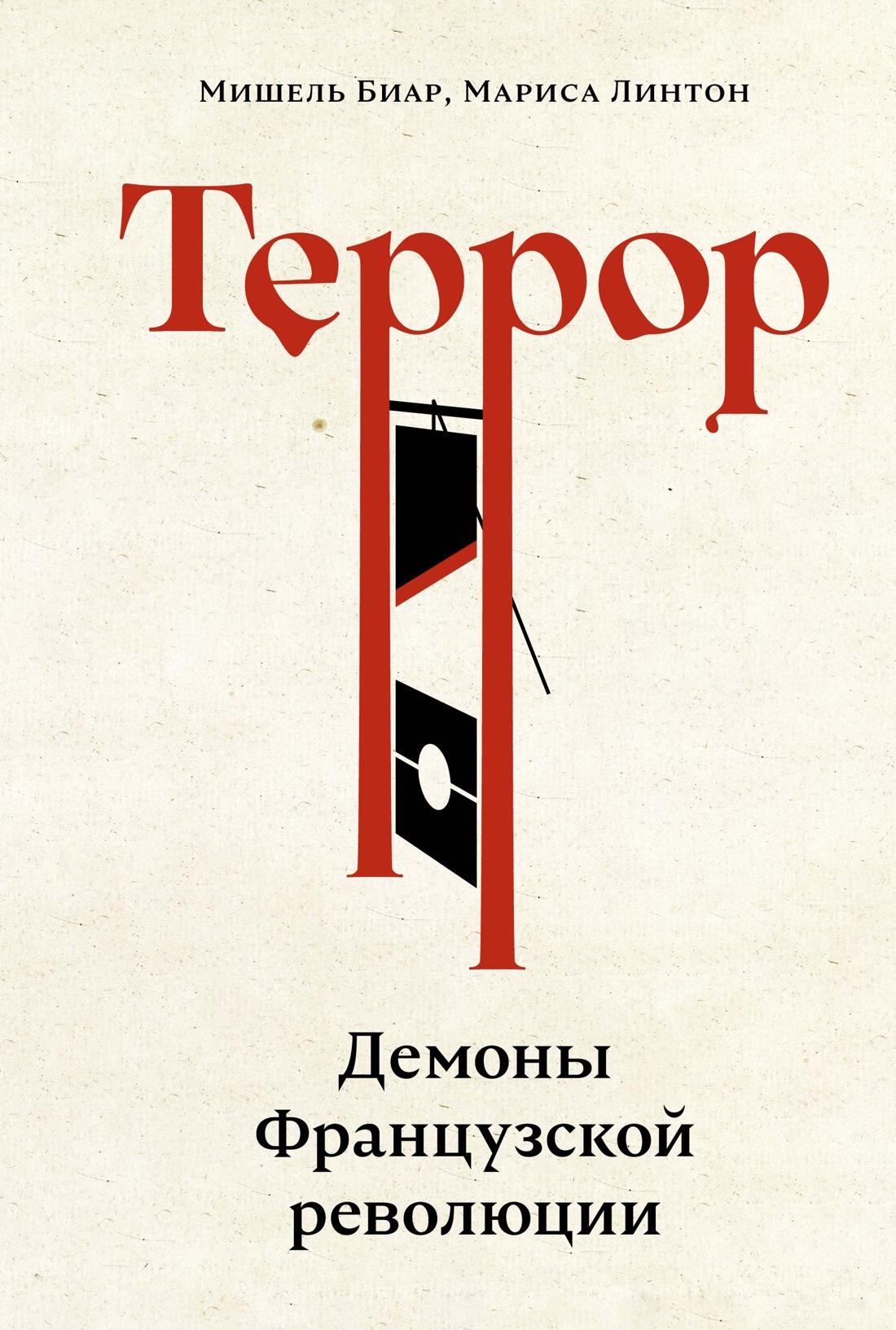
Слова «терроризм» и «террор» представляют собой едва ли не хрестоматийный пример плавающих означающих, то есть таких терминов, что отсылают сразу ко множеству противоречивых и политически нагруженных определений, выбор между которыми будет зависеть от идейных позиций, занимаемых вами самим. Кто-то из нас всерьез записывает в пособники террористов Грету Тунберг и западных левых, выступивших против бомбежек Газы, кто-то — людей, оставляющих в информационной сети «Интернет» злободневные комментарии, а кто-то — государство, отправляющее таких людей в тюрьму на реальные сроки.
В попытке уяснить, что именно представляет собой использование террора как политического инструмента, вполне вероятно, имеет смысл обратиться к корням, то есть к 1790-м годам, когда это слово и приобрело известное всем ужасающее значение. Именно исследованию такого рода и посвящена совместная книга двух специалистов по Великой французской революции: французского историка Мишеля Биара и его британской коллеги Марисы Линтон.
Биар и Линтон начинают с того, что в скором времени после термидорианского переворота заинтересованными лицами был сконструирован миф, возлагавший всю ответственность за массовые убийства исключительно на Робеспьера и его соратников. Террор в подобной оптике объявляется некой специфической формой политики, проводившейся Робеспьером и завершившейся с его устранением — однако впоследствии более чем успешно заимствованной тоталитарными режимами ХХ века. Ни в коей мере не желая отмыть якобинскую диктатуру от всей пролитой ей крови, Биар и Линтон склонны все же считать такую картину мира не вполне справедливой, а учиненное во Франции насилие характеризовать как уникальное политическое явление, наделенное «собственным ритмом, собственной логикой, географией, результатами, всем комплексом свойств, из-за которых его никак нельзя считать „системой“, единообразно возобладавшей на всей территории страны».
Само понятие «террора» не было изобретением французских революционеров. С десятками случаев употребления этого термина и производного от него эпитета terrible («страшный») можно встретиться в Вульгате святого Иеронима (наиболее распространенном среди французских католиков латинском переводе Библии). Ветхозаветный Бог действует через ужас, используя его не только в качестве карательной политики против неверных, но и как орудие предостережения оступившимся, которые таким образом получают шанс спастись. Римская политическая мысль, идеализировавшая утраченный «Золотой век» Республики, предполагала необходимость добродетельного служения своему сообществу и готовности «грозно» его защищать. В том числе, столь же грозно, как Луций Юний Брут, приговоривший к смерти собственных сыновей «за сообщничество с прежними царями ради свержения Республики». Якобинские революционеры, пишут Линтон и Биар, воспитывались на идеях классического республиканизма и очень хорошо знали библейскую традицию, даже если и приняли для себя решение полностью ее отвергнуть, — и использование языка террора могло отсылать именно к этим идеализированным образам карающей силы и добродетели.
Именно добродетель — то есть важнейшая республиканская концепция самоотверженного служения общему благу — следует, как прямо проговаривал это в своих речах Робеспьер, рука об руку с террором. Революционер — это человек, полностью отказавшийся в своем служении обществу от каких-либо личных амбиций и не имеющий даже тени эгоизма и желания славы. Участие такого человека в политике не может ограничиваться его присутственными часами, и граждане вправе делать каждый его поступок предметом публичного обсуждения. Однако революция и война создают множество лазеек, которыми для прихода во власть все равно пользуются бесчестные люди — а потом выдают себя за честнейших перед лицом народного суда. Фактически единственный способ, которым революционер может доказать свою подлинную приверженность идеалам республиканизма, — постоянная демонстрация готовности расстаться ради них с собственной жизнью.
Разумеется, такую политику невозможно было вести бесстрастно, и, как уверены Линтон и Биар, чтобы в должной мере осознать мотивацию этих людей, нам необходимо перейти с уровня рационального объяснения ими своих поступков на этаж захватывавших их аффектов. Среди множества эмоций, порождаемых революцией, центральной, возможно, является та, которую сами революционеры называют «подъемом» или «экзальтацией»: пьянящее чувство участия в колоссальном деле, меняющем мир, и ощущение неразрывной связи друг с другом. Однако по мере столкновения с новыми кризисами, которые неизбежно провоцирует революция, чувство это имеет свойство отступать, и тогда на смену недавней уверенности в товарищах приходят сомнения и страх. «Революционеры не ограничиваются тем, что сеют ужас среди других: они испытывают его сами. Это двойственное явление превратится в один из двигателей террора: те или иные люди станут к нему прибегать для защиты Революции, а также, по крайней мере отчасти, чтобы самим не стать его жертвами».
Революционная эпоха несомненно многим была чудовищна, однако размах связанных с ней жестокостей, как настаивают далее Биар и Линтон, в известной мере был преувеличен современниками и продолжает затуманивать адекватное восприятие тех событий до сих пор. Так ли ужасен был санкюлот, каким его рисовала роялистская пропаганда? Несомненно, этот обитатель парижских улиц имел возможность продемонстрировать свою способность к устрашающей жестокости, однако большая часть проводимых санкюлотами акций носила мирный и ненасильственный характер. Так ли кошмарен был развязанный против Вандеи террор, который некоторые даже приравнивают к геноциду? Хотя речь действительно идет об одном из самых кровавых событий революционных лет, свирепые репрессии на покоренной территории с целью исключить возможность дальнейшего бунта являлись вполне обычной практикой для XVIII века. Так ли беспощадна оказалась волна репрессий, поднявшаяся против неприсягнувших священников, эмигрантов и их родственников и тому подобных «неблагонадежных» лиц? Действительная статистика, как утверждают Линтон и Биар, показывает, что революционная власть первоначально демонстрировала известную умеренность в обращении с этими категориями лиц, которая исчезала по мере нарастания сопротивления — то есть под действием внешних обстоятельств, а не кровожадного решения, выношенного и объявленного Робеспьером.
Ключевая мысль книги сводится таким образом к тому, что никакого террора как системы подавления и уничтожения инакомыслящих не существовало. Был просто террор, ставший трагической, однако, по всей видимости, неизбежной реакцией на яростное сопротивление контрреволюционеров, народные волнения, экономический и социальный кризисы и прочие факторы, с которыми затруднительно было справиться без опыта управления государством. Революционеры своей политикой не столько сеяли ужас, сколько пытались справиться с охватившим их самих жутким страхом. Мало того, именно те люди, которые поспешили сделать козлом отпущения за все случившееся Робеспьера, принимали в этом терроре самое деятельное участие, а приход на место якобинских революционеров других людей едва ли что-то серьезным образом бы изменил в плане количества жертв. «Трудно гадать, что произошло бы, если бы в политической борьбе победили жирондисты, а не монтаньяры, но, скорее всего, осуществился бы схожий сценарий, при котором вся разница свелась бы к замене обвиняемых на обвинителей».
Примечательным образом подобная логика созвучна цитате из письма Энгельса, сообщавшего своему закадычному другу Марксу, что террор — это не диктатура политиков, «внушающих ужас», но период «господства людей, которые сами испытывают страх» и совершают «большей частью бесполезные жестокости <...> ради собственного успокоения». «Я убежден, что вина за господство террора в 1793 г. падает почти исключительно на перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре» — такие не вполне лестные мысли пришли Энгельсу в голову в процессе наблюдения за ходом Франко-прусской войны.
В советское время употребить подобную цитату в героизированных биографиях французских революционеров было не так-то просто, а современного человека тем более едва ли заставишь по собственной воле читать переписку Энгельса с Марксом — вот и приходится, для того чтобы почерпнуть такую несложную в целом мысль, знакомиться с целыми монографиями.
Но если все-таки говорить серьезно и вернуться к книге Биара и Линтон, то можно заострить внимание, например, на том, насколько применяемая ими аргументация напоминает ту, к которой зачастую прибегают люди, оправдывающие (ну или, хорошо, объясняющие) большевистский террор в период Гражданской войны. Послужили ли эти события прообразом того, что в совсем недалеком будущем начнут вытворять «тоталитарные режимы ХХ века», или в ядре большевистской политики не был неизбежно заложен зародыш сталинизма? Возможно ли было если и не избежать насилия, то хотя бы серьезно уменьшить его масштабы — или мясной маховик в любом случае включился бы на полную мощность и не существовало никакой принципиальной разницы в том, кто именно придаст ему стартовый импульс? Насколько вообще французские образы террора повлияли на ту политику, которую при самых разных условиях на протяжении ХХ века станут воспроизводить пришедшие к власти революционеры? Ответы на эти вопросы явным образом находятся за пределами компетенций Биара и Линтон, которые занимаются очищением от исторических спекуляций того периода, в котором лучше всего разбираются сами.
И в любом случае, хочется в завершение сказать: станем ли мы называть описываемое ими явление террором как сознательной политикой искоренения или террором как неизбежной практикой самозащиты революционного государства, суть его все равно станет от этого едва ли более приглядной.