Люди из подполья
О романе Михаила Гиголашвили «Кока»
Роман Михаила Гиголашвили «Кока» — продолжение наркоэпопеи «Чертово колесо», получившей в 2010 году премию «Большая книга». В новом произведении тема зависимости от препаратов постепенно отходит на второй план, уступая место особому взгляду на недавнюю, а отчасти и на древнюю историю. Автор дает слово маргиналам, людям из подполья, чей голос обычно не бывает слышен. О том, зачем он это делает и что из этого получилось, читайте в материале Артема Роганова.
Михаил Гиголашвили. Кока. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021
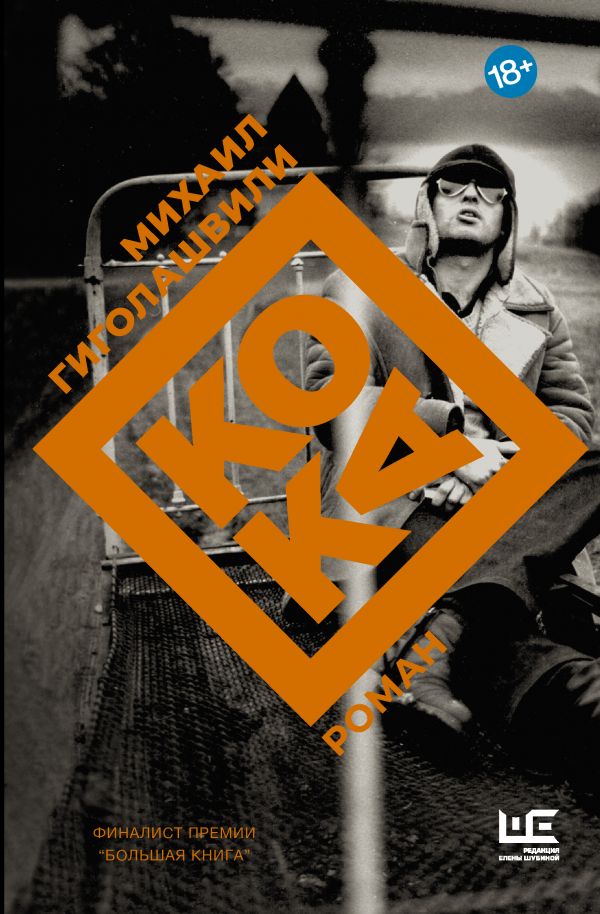 Проза о влиянии наркотиков на жизнь людей далеко не всегда представляет собой криминальную драму или условную «чернуху». Тем более, она не обязательно относится к психоделической литературе. В то же время в ней, за редкими исключениями, разрабатывается один и тот же устойчивый сюжет. Ведь практически везде, от «Морфия» Михаила Булгакова до произведений Баяна Ширянова, характер конфликта и интриги заранее обусловлен самим фактом наличия наркозависимого протагониста. Во-первых, неминуемо возникает вопрос о взаимодействии аддиктивного героя и общества. Как тот со своей болезнью адаптируется к социальным нормам и как его зависимость влияет на отношения с близкими? Даже в «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли, где выдуманная сома вполне легальна, подсевшая на нее мать больше не может найти общий язык с сыном. Во-вторых, наркосюжет, как правило, заставляет читателя переживать, что случится с героем раньше — летальное отравление или победа над собственным мозгом, заключенным в объятия искусственных стимулов. И тем любопытнее, что роман Михаила Гиголашвили «Кока», озаглавленный именем своего центрального персонажа, хоть изначально и следует негласным канонам «нарколитературы», в итоге радикально от них отходит.
Проза о влиянии наркотиков на жизнь людей далеко не всегда представляет собой криминальную драму или условную «чернуху». Тем более, она не обязательно относится к психоделической литературе. В то же время в ней, за редкими исключениями, разрабатывается один и тот же устойчивый сюжет. Ведь практически везде, от «Морфия» Михаила Булгакова до произведений Баяна Ширянова, характер конфликта и интриги заранее обусловлен самим фактом наличия наркозависимого протагониста. Во-первых, неминуемо возникает вопрос о взаимодействии аддиктивного героя и общества. Как тот со своей болезнью адаптируется к социальным нормам и как его зависимость влияет на отношения с близкими? Даже в «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли, где выдуманная сома вполне легальна, подсевшая на нее мать больше не может найти общий язык с сыном. Во-вторых, наркосюжет, как правило, заставляет читателя переживать, что случится с героем раньше — летальное отравление или победа над собственным мозгом, заключенным в объятия искусственных стимулов. И тем любопытнее, что роман Михаила Гиголашвили «Кока», озаглавленный именем своего центрального персонажа, хоть изначально и следует негласным канонам «нарколитературы», в итоге радикально от них отходит.
Для начала нужно вспомнить, что «Кока» — продолжение другой книги Михаила Гиголашвили, романа «Чертово колесо». В нарисованной там масштабной картине распада советской системы повальная зависимость от опиатов являлась и главным сюжетообразующим фактором, и метафорой саморазрушения «красной империи». Концентрироваться на наркомании во второй раз было бы странно. Между тем именно в «Чертовом колесе» читатель впервые знакомится с Кокой. Там его линия выглядит относительно спокойной и комедийной, уступая по безобидности разве что истории двух влюбленных подростков. Действие «Чертового колеса» происходит в конце восьмидесятых, где Кока — недоучившийся студент из интеллигентной семьи, который по сравнению с остальными еще не до конца пристрастился к тяжелым веществам. Он в целом кажется симпатичным малым на фоне беспредельщиков-бандитов и не менее жестоких полицейских. Но уже в «Чертовом колесе» заметны противоречия в образе Коки, который мечется между Тбилиси и Парижем, словно не в силах определиться, где ему жить. Вежливый и образованный парень из аристократичной семьи, он тянется к мелким криминальным авантюрам и самому грубому кайфу. Возможно, поэтому из всего бестиария предыдущей наркоэпопеи именно Кока первым удостоился отдельной книги, где двойственность его натуры педалируется напрямую. Так, герой несколько раз в ходе повествования рассуждает о своих «темной» и «светлой» сторонах.
Из «Чертового колеса» в сиквел перекочевали также двое бандитов Нугзар и Сатана. Теперь наступил 1993 год, границы окончательно открыты, промышлять вымогательствами и грабежами можно не только на родине, но и в Европе. Например, в Голландии, где подельники встречают сидящего на героине Коку и используют его как мелкого помощника в своих аферах. Кока поругался с родителями, живет в подвале у двух полусумасшедших травокуров и постоянно ищет деньги на дозу. Бандиты, конечно, опасные, но то ли воздух свободы сделал их добрее, чем раньше, то ли возраст сказывается — после пары оплеух они делятся с Кокой несколькими заветными купюрами. А Нугзар, еще в конце предыдущей книги внезапно проникшийся Тургеневым, и вовсе по-отечески советует земляку завязать с героином. Кока и сам, как почти любой «системщик», время от времени об этом думает, но тут осмеливается поехать в немецкий пансионат, чтобы там пережить ломку. Дальше почти все решает череда случайных обстоятельств: больница, психиатрическая клиника, где герою помогают без особого труда слезть с героина, возвращение в Тбилиси и едва ли не навязанная поездка за марихуаной, которая приводит к тюрьме. Временами Кока напоминает статиста-наблюдателя, настолько большое количество ключевых событий романа случается не по его воле. Заявленный как неоднозначный, сомневающийся герой, который то и дело размышляет об имеющих право хищниках и дрожащих травоядных, на деле Кока больше похож на плывущего по течению Обломова, чем на Раскольникова. Уже здесь проскальзывает некоторое отличие от стандартной для «нарколитературы» истории, где герой традиционно активен, пусть даже он всего лишь разыскивает дозу или путешествует в галлюцинаторных снах. И пожалуй, это яркая черта романа — демонстрация пассивной природы аддикции; отчасти она перекликается с «Джанки» Берроуза, где рассказчик утверждает, что наркоманами становятся прежде всего «от нечего делать».
Зато активно окружение Коки, наполняющее текст длинными диалогами, местами переходящими в монологи. Важно отметить, что роман читается как отдельная книга, хоть и является продолжением предыдущей. Вся необходимая для понимания сюжета предыстория проговаривается не раз, а некоторые пассажи и вовсе повторяются. Например, анекдот о наркомане, который оправдывается перед врачами тем, что вколол себе дозу с целью покончить жизнь самоубийством, и натыкается на насмешливый вопрос: «Сколько раз в день ты кончаешь жизнь самоубийством?» — был описан в «Чертовом колесе» как байка, а здесь иллюстрируется полноценной сценой. Кружение вокруг одних и тех же тем в разных вариациях возникает и внутри нового сюжетного повествования. Рассуждения соседей Коки по амстердамскому подвалу, причитания сумасшедших и поучения сокамерников в тюрьме становятся своеобразными рефренами. Подобные отвлеченные диалоги тормозят развитие сюжета и явно не тянут на глубокую философию. Не зря Кока страдает тиннитусом — шумом в ушах. Этот образ фактически отражает звучащее в книге многоголосье самых разных персонажей. Оно хоть и подчас ощутимо снижает остроту фабулы, зато, с одной стороны, оттеняет классическую наркоманскую историю, а с другой, убедительно демонстрирует языковой калейдоскоп, возникающий при встрече людей из непохожих социальных групп. Рядом с речью опустившихся интеллигентов здесь можно услышать и неуклюжий диалект русских немцев, и воровской жаргон, и характерный кавказский говор.
— Еще нет. Еще не сложилось, где чья кормушка, поэтому идет дележ, скулеж, грабеж, все вошли в раж, в большой кураж! А вот когда все будет поделено, тогда и успокоятся... И большой народ, как и тысячу лет назад, будет пахать в нищете, платить оброк и барщину, — а князья будут пировать! Народ пятьсот лет назад как с дуба рухнул, так и остался лежать, благо грибов и ягод было навалом, мед от пчел и шкуры на шубы от медведей, — чего ещё надо для жизни, кроме, разумеется, водки, огурца и кислой капустки?
— Чего он такой агрессивный сегодня? — спросил Кока у Барана.
— Кента его замочили в Москва. Полковник лично пуля в копф всадил! Думал, он амлаз стырил! Все под бог ходим!
— Не под богом, а под топором и пулей! — взъярился Лясик.
Михаил Гиголашвили — автор диссертации о рассказчиках в творчестве Достоевского, и в романе «Кока» влияние классика чувствуется даже в игровых названиях глав, куда бывает вынесена второстепенная деталь или случайно брошенное кем-то словосочетание. Индивидуальные речевые характеристики почти каждого персонажа, а также лаконичные, но образные описания формируют цельный стиль, который можно считать одним из основных достоинств текста.
К классике отсылает и мотив с хищниками-травоядными, и тема христианства, чья важность тем выше, чем ближе конец повествования, и деление частей книги на рай, чистилище, ад. И здесь бросается в глаза любопытный парадокс. Именно в наиболее трагичной третьей части, в аду-тюрьме, герой обретает силу и уверенность. В комедийном, казалось бы, раю, он, наоборот, был зависим от опиатов, боялся всего подряд и шел на поводу у бандитов. Да и в третьей части трагедии как таковой не происходит — спасибо окончательно подобревшим уголовникам, принявшим героя как своего, коррупции и родственникам. Преступный мир в «Коке» пусть не откровенно, но все же романтизирован, а тюрьма выглядит — опять же по Достоевскому — скорее полезным испытанием, чуть ли не дорогой к Богу, а не бессмысленным адом. Легко пережить такую тюрьму, когда за тобой влиятельные бандиты, дружественная диаспора и богатый папа товарища по несчастью. К счастью, это хоть и вскользь, но проговаривается. И все же роман воспитания из «Коки» получается очень спорный, как минимум, чересчур идеалистический.
Новую книгу Гиголашвили нельзя в полной мере назвать и плутовским романом. Да, Кока поначалу претендует на роль удачливого пройдохи-авантюриста, но в итоге так им и не становится, будучи слишком пассивным и нередко ограничиваясь лишь мыслями о том, что он мог бы сделать с чужими деньгами. Вместо этого Кока, повидав разного рода жестокости и выслушав множество людей разной степени маргинальности, выбирает путь писателя. Во многом этому способствует Библия, которую герой читает в тюрьме, чем дальше, тем больше проникаясь христианской моралью, так что под конец превращается едва ли не в резонера, призывающего милость к падшим. Неудивительно, что Кока начинает работать над повестью о жизни апостола Луки, а также о неочевидной причине освобождения разбойника Вараввы. Являясь приложением к роману, повесть подспудно продолжает мотивы из основного текста. Хотя параллельное развитие новозаветной истории на фоне основного сюжета, представляющего недавнюю современность, у русскоязычного читателя неизбежно ассоциируется с «Мастером и Маргаритой», в «Коке» связи с романом Булгакова сведены к минимуму. Современность тут представлена в сдержанно натуралистическом, а не в сатирическом ключе, а евангельская история с ее социальным подтекстом скорее напоминает «Евангелие от Иисуса» Жозе Сарамаго. Роман Михаила Гиголашвили фокусируется прежде всего на социально-психологических явлениях: негласных иерархиях, отношениях сильных и слабых, на зависти, честности и гордыни, на несправедливости законов и на коррупции. Последняя, кстати, оказывается едва ли не основной движущей силой в «Коке». Благодаря ей происходит несколько значительнейших поворотов в развитии сюжета, за здоровье «Коррупции Ивановны» в романе поднимают тост. Коррупция и помогает, и губит, она судьбоносна и дана вне положительных и отрицательных коннотаций, как примета и символ времени.
«Кока» в целом и выглядит, прежде всего, романом о времени, текстом, созданным в историческом жанре. Причем описывает он сразу три разных периода. Первый — Европа, Россия и Грузия девяностых. Неслучайно герои постоянно обсуждают политические события, по-разному к ним относятся, проводят параллели с прошлым и дают предсказания. Наркоманы и преступники здесь — тоже маркеры времени, характерные, а иногда и новые типажи. Второй период — оживающая в воспоминаниях Коки эпоха застоя в Грузии, которая как раз похожа на потерянный рай гораздо больше, чем Голландия. Третий период возникает в той самой повести по мотивам Евангелия. Она высвечивает вечные, никуда не уходящие темы. Отчасти, подобно «Истории безумия» Мишеля Фуко, «Кока» — это история, рассказанная с точки зрения маргинального подполья. И, в отличие от «Чертового колеса», здесь его обитатели предстают в гораздо большем многообразии. Даже повесть о Луке и Варавве сконцентрирована на людях, стоящих вне закона, — бандитах и первых христианах. Именно их взгляд на мир — наркоманов, уголовников, безумцев, святых, словом, людей, чей голос обычно не бывает слышен, — и оказывается в центре новой книги Михаила Гиголашвили. Благодаря этому читателю по-новому открывается недавняя, еще не до конца осознанная нами история начала девяностых. Ее можно увидеть не только как время распада общественного порядка или долгожданного прорыва постсоветского человека к свободе, но и как период, когда в отсутствие привычного светского закона, регулирующего повседневные отношения, неожиданно заработали законы куда более древние. С одной стороны, едва ли не первобытное, архаичное деление на «своих» и «чужих» с вытекающими отсюда коррупцией, тотальным блатом и преступностью. С другой — запрос уже уставших от первобытного общежития людей на христианские ценности и христианскую мораль как на самый простой способ примирения и друг с другом, и с неидеальной действительностью.