Ленин смеется над модернизмом
О книге Кирилла Чунихина «Американское искусство, Советский союз и каноны холодной войны»
F. Goess/Downtown Gallery records, 1824-1974/Archives of American Art/Smithsonian Institution
То, что американский модернизм был инструментом «культурной холодной войны», давно стало общим местом. Историк искусства Кирилл Чунихин решил подвергнуть ревизии расхожие представления и переосмыслить взаимодействие СССР и США в области искусства — на «Горьком» о его книге «Американское искусство, Советский союз и каноны холодной войны» рассказывает Константин Митрошенков.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Кирилл Чунихин. Американское искусство, Советский союз и каноны холодной войны. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
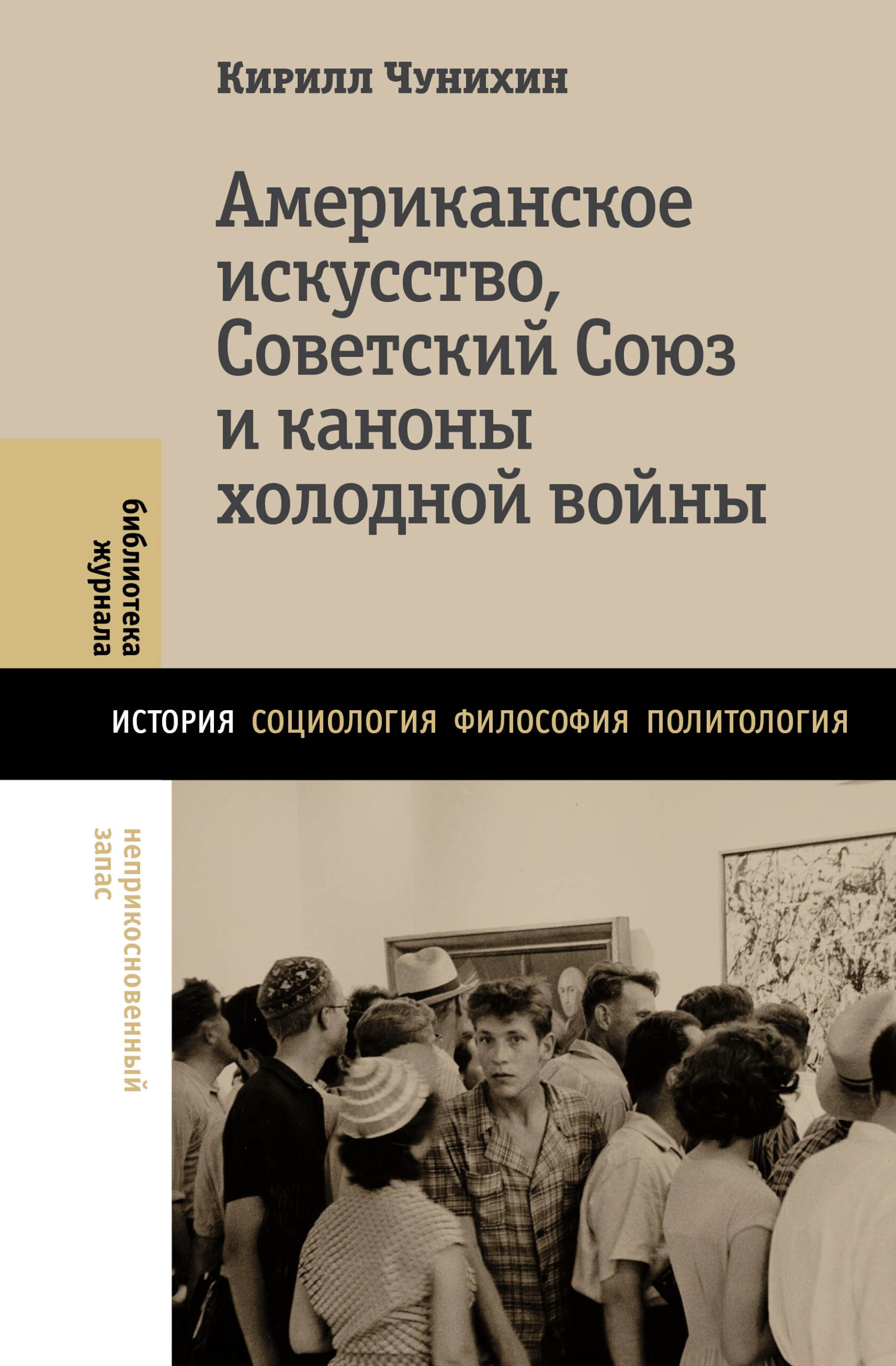
Молодой мужчина в клетчатой рубашке смотрит прямо в объектив камеры. Он пробирается через толпу людей, чьи лица обращены в противоположную сторону — к картине Джексона Поллока «Собор» (1947). Это фото, запечатлевшее один из первых контактов широкой советской аудитории с современным американским искусством, сделано на Американской национальной выставке, проходившей в Сокольниках с июля по сентябрь 1959 года. Обычно эту выставку и, в частности, присутствие на ней модернистской живописи рассматривают как один из важнейших эпизодов культурного противостояния США и СССР. Так, Владимир Паперный, посетивший выставку в Сокольниках, в интервью 2011 года называет картины Поллока источником идеологической заразы, которая должна была проникнуть в сознание советских людей, а исследовательница московского художественного андеграунда Лёля Кантор-Казовская говорит об абстрактном экспрессионизме как об оружии «культурной холодной войны». Некоторые исследователи даже утверждают, что ЦРУ в годы холодной войны напрямую финансировали художников-модернистов и институции современного искусства, рассчитывая использовать их для подрыва советского строя. Какой бы привлекательной ни казалась гипотеза о прямой связи между спецслужбами и искусством, она не имеет под собой достаточного фактического основания. Более того, даже если допустить, что американские власти действительно надеялись при помощи картин Поллока внести смятение в стан врага, остается открытым вопрос о том, как советские зрители воспринимали абстрактный экспрессионизм и другое модернистское искусство. Ведь если мы снова посмотрим на фото с выставки в Сокольниках, то заметим, что лицо молодого человека не выражает никакой конкретной эмоции — при желании в нем можно увидеть растерянность, неодобрение или скуку, но все это в конечном счете будет лишь проекцией наших собственных представлений на материал, сопротивляющийся однозначной интерпретации.
Историк искусства Кирилл Чунихин проводит ревизию устоявшихся представлений о советско-американском взаимодействии в сфере искусства. В книге «Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны» он решает выяснить, что же скрывается за широко распространенным (особенно в американской академической среде) нарративом о противостоянии абстрактного экспрессионизма и советской идеологии и ответить на вопросы: кто и как определял содержание выставок американского искусства, проходивших в СССР в годы оттепели? Как советские критики и искусствоведы интерпретировали модернистскую живопись? Какую роль во всем этом играла идеология? И наконец, как на картины Поллока и других американских художников реагировали обычные советские зрители вроде того мужчины в клетчатой рубашке, с которого мы начали рецензию? Как это часто бывает, действительная история оказывается куда интереснее упрощенных представлений о ней.
В первой части книги Чунихин рассказывает о восприятии американского искусства в СССР. Он начинает с краткой истории советского антимодернисткого дискурса, который зародился еще в 1930-е годы («Джеймс Джойс или социалистический реализм?» — так поставил вопрос на первом съезде Союза советских писателей Карл Радек), а с началом холодной войны приобрел явный антиамериканский оттенок. Это часто приводило к курьезам. Так, в советских публикациях конца 1940-х — начала 1950-х годов испанский художник Сальвадор Дали «представал как видный американский живописец, а сюрреализм — как типично американское художественное течение», стоящее в одном ряду с такими инструментами для достижения мирового господства, как атомная бомба и план Маршалла. Но Чунихин не ограничивается перечислением идеологических клише и обращает внимание на внутренние противоречия советского антимодернистского дискурса. С одной стороны, советские критики отказывали американскому (да и какому-либо иному) модернизму в художественной ценности, а с другой — пытались описывать его в эстетических категориях. Более того, имевшиеся в их распоряжении категории были выработаны для анализа фигуративного искусства реализма и соцреализма, но плохо подходили для нефигуративной живописи. Анализируя статьи советских критиков, Чунихин обращает внимание на их настойчивое стремление описать даже самые абстрактные полотна так, как будто они что-то изображают. Чунихин предполагает, что именно по этой причине на раннем этапе холодной войны в советских дискуссиях о модернизме такое внимание уделялось сюрреализму: живопись сюрреализма, помещающая привычные объекты в непривычные места (Рене Магритт) и трансформирующая их (Дали), гораздо лучше поддавалась нарративизации, чем полотна Поллока или Марка Ротко, на которых с точки зрения фигуративного искусства «ничего не происходит». Таким образом, Чухинин смещает фокус внимания с вопроса о неприятии американского искусства на вопрос о его непонимании, а точнее о неспособности советских критиков и зрителей осмыслить его при помощи наличного категориального аппарата.
У этого непонимания была богатая история, уходящая корнями еще в ленинскую критику модернизма. Несмотря на то что Ленин никогда всерьез не занимался эстетикой, его разрозненные высказывания об искусстве и литературе заложили основу советского антимодернистского дискурса. Чунихин приводит воспоминание немецкой коммунистки Клары Цеткин о ее разговоре с Лениным об абстрактной живописи, состоявшемся в 1920 году:
«Я не могла удержаться и созналась, что и мне не хватает органа восприятия, чтобы понять, почему художественным выражением вдохновенной души должны служить треугольники вместо носа и почему революционное стремление к активности должно превратить тело человека, в котором органы связаны в одно сложное целое, в какой-то мягкий бесформенный мешок, поставленный на двух ходулях, с двумя вилками по пяти зубцов в каждой.
Ленин от души расхохотался».
Как отмечает Чунихин, негативные эмоции, испытанные Лениным и Цеткин при столкновении с абстрактным искусством, нейтрализуются смехом. Осмеянное уже не кажется таким страшным, и, что еще более важно, сам акт высмеивания полностью меняет динамику взаимоотношений между зрителем и противостоящей ему или ей картиной. Непонимание увиденного, в котором признаются Ленин и Цеткин, из недостатка («мне не хватает органа восприятия») превращается в достоинство: абстрактное искусство столь ненормально, что единственной нормальной (или, используя другое характерное слово из антимодернистского словаря, «здоровой») реакцией на него оказывается искренний смех. Именно сочетание смеха с критикой было одной из основных форм советской реакции на модернистское искусство в 1950–1960-е годы — Чунихин называет это «насаждавшимся сверху антимодернистским смехом».
Модернистское искусство часто становилось объектом карикатур. Так, Чунихин анализирует «„Искусство“ и жизнь» (1956) Кукрыниксов — пародию на Венецианскую биеннале. На опубликованном в сатирическом журнале «Крокодил» рисунке мы видим пару, целующуюся в зале с модернистскими скульптурами. Рисунок сопровождается подписью «Павильон уединения», прозрачно намекающей, что модернистское искусство настолько невразумительно и антинародно, что даже на Западе трудно найти желающих полюбоваться на него. Два года спустя Кукрыниксы нарисовали для «Крокодила» еще одну карикатуру на ту же тему. Рисунок называется «Три грации», на нем скульптура Кеннета Армитиджа «Сидящая женщина с простертыми вверх руками» (1953–1957) помещена между двумя образцами античного искусства: Венерой Милосской и Венеры Капитолийской. По-видимому, замысел состоял в том, чтобы показать: при сравнении с классическим искусством становится очевидно не только уродство модернизма, но и его выпадение из тысячелетней художественной традиции, преемственность с которой как раз была очень важна для соцреализма. Контраст усиливается визуальными решениями карикатуристов: если Венеры нарисованы от руки, то скульптура Армитиджа представлена фотографией, добавленной на карикатуру в коллажной манере.
Но не стоит думать, что советский дискурс об американском искусстве ограничивался только критикой и высмеиванием модернизма. Советские искусствоведы анализировали и работы американских художников-реалистов, видя в них альтернативу упадочному модернизму. Чунихин подробно разбирает монографию Андрея Чегодаева «Искусство США. От Войны за независимость до наших дней» (1960), которая, по его словам, во многом сформировала советский канон американского реалистического искусства. К моменту выхода книги Чегодаева американское искусство — если вынести за скобки выпады против модернистов — было плохо известно в СССР. Произведения американских художников и скульпторов, представленные в советских собраниях, можно было пересчитать по пальцам. Чегодаев сосредоточился главным образом на американском реализме — фигуративных произведениях, изображающих конкретные реалии американской жизни. Он воспринимал «американское изобразительное искусство как историческое свидетельство, своего рода визуальный документ, способный сформировать правильное или ошибочное представление о прошлом и настоящем США» и сравнивал американских художников с их русскими коллегами, которые, по мнению искусствоведа, тоже верно «отображали действительность». Следуя советскому постулату о враждебности буржуазного общества подлинно реалистическому искусству, Чегодаев постоянно подчеркивал трудности, с которыми сталкивались американские художники-реалисты и изображал их изгоями, находящимися в постоянном конфликте с обществом.
Вне зависимости от того, насколько корректным такой взгляд на взаимоотношения художника и общества был применительно к XIX веку, в современную Чегодаеву эпоху многие американские художники действительно сталкивались с серьезным общественным и политическим давлением. Однако связано это было не с их приверженностью фигуративному искусству, а с последствиями маккартизма — кампании против заподозренных в левых симпатиях американцев, начавшейся в послевоенные годы и продолжавшейся до 1957 года. Одним из тех, кто привлек к себе внимание Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, был художник-реалист и иллюстратор Рокуэлл Кент. В 1955 году Кента, не скрывавшего своих симпатий к социализму и в ходе разбирательств отказавшегося отвечать на вопрос «коммунист ли вы?», обвинили в лояльности к СССР и лишили права покидать США.
Кент никогда не был коммунистом, но действительно проявлял интерес к советскому проекту. В 1953 году он даже предложил советскому послу организовать свою выставку в СССР. Тогда советские чиновники отказались от предложения Кента, но через несколько лет, когда на смену изоляционизму последних сталинских лет пришла установка на обновленный «социалистический интернационализм», вернулись к нему. В декабре 1957 года в Пушкинском музее открылась выставка «Рокуэлл Кент. Живопись и графика», ставшая первой масштабной выставкой американского искусства в советском музее. После этого экспозиция отправилась в небольшое турне по советским городам, посетив Ленинград, Одессу, Ригу и Киев. Турне прошло с большим успехом: в общей сложности выставку в разных городах увидели более 500 тысяч человек, а советские газеты не скупились на похвалы Кенту, называя его «выдающимся американским художником» и «одним из наиболее уважаемых и видных художников-реалистов в США». Окрыленный успехом, Кент в 1960 году решился на беспрецедентный шаг: передал более 900 своих работ в дар «советскому народу». Как объясняет Чунихин, за этим альтруистическим на первый взгляд жестом стояли вполне прагматические соображения. Преследования в годы маккартизма сильно испортили репутацию Кента, и музеи перестали интересоваться его картинами. Кроме того, в 1950-е годы фигуративное искусство (а Кент был довольно традиционным художником) стремительно теряло в популярности по сравнению с абстрактной живописью, находившейся на волне международного успеха. «Оказавшись, по сути, маргиналом и аутсайдером современного художественного рынка, Кент не мог не оценить преимущества сотрудничества с Советским Союзом, где реалистическое искусство было в почете», — пишет Чунихин.
Выставки Кента были организованы по личной инициативе художника, в обход официальных американских институций. Но после заключения в 1958 года соглашения Лэйси — Зарубина, создавшего правовую основу для культурных контактов между странами, такая практика ушла в прошлое. Теперь советским чиновникам нужно было договариваться не с американскими художниками, а со своими американскими коллегами. С одной стороны, это упрощало культурное взаимодействие между странами, а с другой — создавало дополнительные трудности, связанные с бюрократическими проволочками и обоюдной цензурой. Во второй части книги Чунихин рассказывает о нескольких американских выставках в СССР, проведенных в рамках соглашения Лэйси — Зарубина. Если прежде его интересовало советские восприятие американского искусства, то теперь в фокусе внимания оказываются действия американских чиновников, кураторов и художников, которые конструировали собственные каноны американского искусства для экспорта в СССР.
В 1959 году в Москве прошла Американская национальная выставка, организованная Информационным агентством США (USIA). У этой масштабной выставки, на который демонстрировались самые разные предметы, «от товаров широкого потребления до произведений искусства», была четкая идеологическая цель — показать превосходство США над СССР. Разумеется, никаких прямых политических высказываний на экспозиции не было (их советская сторона просто не пропустила бы), но сама демонстрация товарного изобилия и культурного разнообразия должна была, по мысли организаторов, «подчеркнуть, что в Америке существует свобода выбора и самовыражения». Поэтому содержание художественного раздела вовсе не сводилось к абстрактному экспрессионизму, о котором чаще всего говорят исследователи, и включало в себя также вполне традиционную фигуративную живопись. Кураторы понимали, что «советская публика может испытывать затруднения при встрече с новым для нее американским искусством» и поэтому разместили произведения в хронологической последовательности, «стремясь представить развитие американского искусства как последовательный процесс», а также перемежали фигуративную живопись абстракциями, чтобы сделать «первую менее вызывающей и… нейтрализовать потенциальные негативные отклики». Но посетители все равно жаловались, что им не хватает пояснений к выставленным работам, и поэтому организаторам пришлось подготовить дополнительные сопроводительные материалы и провести инструктажи для экскурсоводов, плохо подготовленных к работе с советской аудиторией.
Среди посетителей выставки распространялась брошюра Ллойда Гудрича «Современное американское искусство». Чунихин обращается к ее тексту и отмечает несколько важных концептуальных ходов американского искусствоведа. В соответствии с общим нарративом выставки Гудрич подчеркивал многообразие американского искусства, являющееся «подходящим выражением демократического образа жизни», но при этом проводил параллели между абстрактными и фигуративными работами, а также утверждал, что «в Соединенных Штатах современное искусство получает широкую поддержку с самых разных сторон». Чунихин предполагает, что последнее утверждение прямо отсылало к соцреалистическому тезису о народности искусства и оспаривало господствующую в советском искусствоведении идею о том, что модернизм чужд широкой публике. Чунихин заключает, что Гудрич не столько противопоставлял советское и американское искусство, сколько пытался описать последнее в понятных советской аудитории категориях.
Однако усилия Гудрича и организаторов выставки не возымели должного эффекта. По крайней мере, к такому выводу приходит Чунихин, проанализировав сохранившиеся книги отзывов, в которых посетители выставки высказывали свое мнение об увиденном. «Из всех разделов Американской национальной выставки, — пишет он, — именно секция искусства чаще всего подвергалась критике». Некоторые посетители использовали характерные антимодернистские штампы («искусство душевнобольных», «дегенеративное» искусство и так далее), другие жаловались на свою неспособность понять авангардное искусство. Так, некто, представившийся Сержантом, писал:
«Нам непонятно абстрактное искусство — живопись, скульптура. Трудно понять, что хотел изобразить автор, и еще потому, что нет русского перевода, я очень хотел узнать, что представляет собой абстрактное искусство, чем руководствуются создатели абстрактных произведений при создании своих произведений. Понимаете, нам очень трудно понять его, поэтому неудивительно, что многие посетители выставки очень резко отзываются о них. <…> Меня удивляет одно — почему никто из гидов не мог объяснить идею и смысл абстрактного искусства. Вообще, если бы организаторы выставки хотели, чтобы эти произведения были понятны всем, то, несомненно, они сделали бы в этом направлении больше. 14.08.1959, Сержант».
Отзыв Сержанта подтверждает тезис Чунихина о том, что сводить советскую рецепцию американского искусства к дихотомии «принятие — неприятие» не совсем корректно, нужно также учитывать различия между американской публикой, привыкшей к модернистскому искусству, и советскими зрителями, в большинстве своем никогда не видевшими ничего подобного.
С учетом этого становится очевидной проблематичность идеи о том, что американские спецслужбы могли использовать абстрактный экспрессионизм для подрыва советского режима. Исследователи, делающие подобные утверждения, исходят из противопоставления (не всегда разделяемого, но всегда подразумеваемого) радикальных экспериментов Поллока и Ротко, освобожденных от оков фигуративности и потому олицетворяющих собой «свободный мир», и наивного реализма советских художников, упорно следующих конвенциям XIX века. Но такое противопоставление (восходящее как минимум к эссе Клемента Гринберга «Авангард и китч» (1939)) — это продукт модернистской культуры с характерной для нее критикой фигуративности и репрезентации. Разумеется, в СССР была своя модернистская культура, поднимавшая точно такие же вопросы (вспомним хотя бы о конструктивистах и фактовиках), но она была фактически уничтожена к концу 1930-х годов. Поэтому странно предполагать, что советский зритель, никогда прежде не имевший дела с модернистским искусством, увидит полотно Поллока и интерпретирует его как аллегорию свободы, бросающую вызов ограничениям тоталитарного фигуративного искусства. Гораздо вероятнее, что такой зритель либо не увидит в нем никакой художественной ценности, либо честно признается, что не владеет соответствующим визуальным языком.
Куда большее воздействие на посетителей оказали предметы потребления (от кухонной техники до автомобилей), наглядно демонстрировавшие преимущества американского образа жизни. Возможно, именно по этой причине следующая крупная выставка, организованная USIA в СССР, хоть и носила название «Американская графика», но была в основном посвящена нехудожественной и рекламной графике, важнейшей составляющей потребительской культуры. На выставке были представлены печатные материалы, книги, рекламные плакаты, упаковки и ткани — как отмечает Чунихин, «кураторы превратили экспозицию в очередную выставку американской материальной культуры». Этого не могли не заметить советские чиновники, отмечавшие, что экспонаты на ней используются «как средство пропаганды американского образа жизни». Но экспозиция все же доехала до СССР, посетила четыре города (Алма-Ату, Москву, Ереван и Ленинград) и привлекла более 1,6 миллиона человек, став одним из самых успешных выставочных проектов за всю историю USIA.
Чунихин предлагает рассматривать «Американскую графику» не просто как очередную выставку художественной и материальной культуры, но как своего рода симулятор американского образа жизни. Джек Мейси, отвечавший за организацию выставки, в годы Второй мировой войны служил в специальном подразделении армии США, в задачи которого входило «создание муляжей военной техники, личного состава и армейской инфраструктуры, которые были нужны для того, чтобы вводить противника в заблуждение». Чунихин считает, что умение «дурачить противника» (цитата самого Мейси) пригодилось ему и во время организации выставки. Под руководством Мейси работали не кураторы, а профессиональные графики и дизайнеры. Экспозиция была выстроена по тематическому принципу и включала в себя разделы, посвященные тканям, эстампам, книгам и так далее. На выставке не было заранее заданного маршрута, посетители могли в своем темпе двигаться от одного раздела к другому, останавливаясь у особенно понравившихся им экспонатов. При этом у выставки была интерактивная составляющая: Норман Роквелл (которого Гринберг отнес к производителям художественного китча наряду с Ильей Репиным) рисовал портреты посетителей, а преподаватель художественной школы при Йельском университете (признанном в современной России «нежелательной организацией») проводил мастер-классы по печатному делу. При этом собственно модернистское искусство оказалось на периферии выставки, уступив центральное место утилитарной графике, использующей, правда, многие его художественные решения.
Если верить немногочисленным отзывам посетителей (американцы сначала распространяли среди посетителей анкеты для обратной связи, но советская сторона вскоре пресекла эту инициативу), то «Американская графика» не произвела на них того впечатления, на которое рассчитывал Мейси и другие организаторы. Авторы многих отзывов жаловались, что выставка сосредоточена исключительно на материальной стороне американской жизни, но ничего не рассказывает о самом «американском народе». «Прекрасные полиграфические возможности, таланты художников направлены на рекламу автомобилей, симфоний, ночных горшков, яиц и бог весть чего еще. На выставке не представлено ни одной практически полезной работы, отражающей основные вопросы, стоящие перед миром и, конечно, перед американским народом», — писал один из посетителей. На этом основании Чунихин делает вывод о том, что попытка организаторов показать советским гражданам «настоящую Америку» оказалась неудачной. Такой вывод кажется как минимум спорным. Вполне вероятно, что авторы отзывов цензурировали себя, а те, кому выставка понравилась, могли воздержаться от написания отзывов, опасаясь репрессий. Да и рекордное число посетителей явно свидетельствует о том, что советские граждане были если не очарованы, то как минимум заинтересованы американской материальной культурой.
Как бы то ни было, в остальном доводы Чунихина кажутся довольно убедительными. Отказавшись от прямолинейного противопоставления абстрактной живописи соцреализму, он предлагает новый взгляд на историю советско-американских художественных контактов в годы оттепели. В этой истории есть место не только идеологическому противостоянию, но и интересам отдельных акторов, действовавших в сложной и постоянной меняющейся политической ситуации. Даже находясь по разные стороны железного занавеса (который, по крайней мере в сфере культуры, вовсе не был в этот период таким уж непроницаемым), советские и американские критики, искусствоведы, карикатуристы, кураторы, дизайнеры и, самое главное, посетители выставок создавали конкурирующие и взаимовлияющие варианты истории искусства США — то, что Чунихин обозначает трудно переводимым на русский язык словосочетанием shared history of American art. История «культурной холодной войны» дополняется и осложняется историей культурного взаимодействия — не вполне успешного, но точно изменившего обе стороны.