Кто такие переводчики-буквалисты и как их уничтожали
О книге «Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов»
Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов / Сост. М. Э. Баскина; отв. ред. М. Э. Баскина, В. В. Филичева. СПб.: Нестор-История, 2021. Содержание
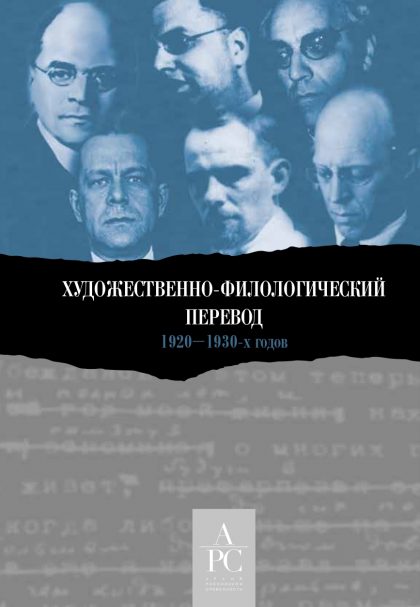 1
1
Андрей Азов в книге «Поверженные буквалисты» рассматривает историю художественного перевода в CCCР в 1920–1960-е годы как конфликт двух основных направлений: точного (или «буквалистского») и реалистического (или «творческого») перевода. Представители первого направления не составляли единой школы, но их объединяла ориентация на оригинал и стремление сохранить его стилистическое и языковое своеобразие. Такой перевод иногда называют «очуждающим» в том смысле, что он «сохраняет определенный налет иностранности и необычности текста». «Буквалисты», как их насмешливо прозвали оппоненты, в основном были выходцами из дореволюционной академической среды, унаследовавшими от Серебряного века идею о невозможности полного перевода художественного произведения.
Сторонники реалистического перевода, напротив, считали необходимым приблизить переводимый текст к читателю и ради этого готовы были пожертвовать некоторыми его специфическими чертами. Основоположником реалистического перевода Азов называет Ивана Кашкина, получившего образование уже в 1920-е годы и впоследствии создавшего собственную школу художественного перевода. Нора Галь, принадлежавшая к младшему поколению «кашкинцев», в популярной книге «Слово живое и мертвое» писала, что переводчик должен быть верен «духу, а не букве подлинника».
Сборник «Художественно-филологический перевод 1920–1930-х годов» рассказывает о тех самых «буквалистах», чьи позиции в советской переводческой среде были сильны вплоть до середины 1930-х годов. Книга открывается очерком Марии Баскиной, составительницы сборника, в котором она рассказывает об истории художественного перевода в СССР в предвоенные десятилетия. Исследовательница отмечает, что после 1917 года многие филологи, философы, историки и поэты — «буржуазные спецы» в терминологии тех лет — стали заниматься переводами, часто не имея возможности иным образом зарабатывать себе на жизнь. Филологический метод перевода во многом стал реакцией на ситуацию, сложившуюся на книжном рынке в годы НЭПа, когда в издательствах выходило большое количество иностранной литературы, переводы которой часто оставляли желать лучшего: «Они [переводчики] выработали по-новому точный, в своих основаниях филологический, метод перевода и редактирования».
Баскина фокусируется не только на переводчиках, но и на тех институциях, с которыми они были связаны. В начале 1920-х годов точкой притяжения для переводчиков стал проект Горького «Всемирная литература», целью которого был перевод на русский язык «избранных произведений иностранной художественной литературы конца XVIII и всего XIX в.». В полной мере масштабные планы Горького так и не были осуществлены, но «во „Всемирной” был создан небывалый раньше в издательской практике институт редакторов, которые должны были скрупулезно сверять перевод с оригиналом, исходя из новых требований к точности». Редакторы издательства, среди которых были Михаил Лозинский и Николай Гумилев, отстаивали принцип эквиритмии в переводе стихов — точную передачу ритмических особенностей оригинала. Лозинский также придерживался метода синтаксической форенизации, то есть стремился сохранять синтаксис переводимого текста.
После ликвидации в 1924 году «Всемирной литературы» многие ее сотрудники оказались в издательстве Academia, просуществовавшем до 1937 года. Баскина отмечает, что именно в деятельности этой, «ключевой для истории филологически точного перевода институции», широко применялись на практике «новые нормы переводческого и редакторского труда», сформулированные еще во «Всемирной литературе».
Критика «буквалистских» переводов началась в середине 1930-х годов. На первом съезде Союза писателей высокую оценку получили переводы грузинских поэтов, выполненные Борисом Пастернаком и Николаем Тихоновым. Оба они не знали грузинского языка и переводили по подстрочникам, не особо заботясь о верности оригиналу. Чуть позже уже знакомый нам Иван Кашкин раскритиковал переводы Диккенса, над которыми работали бывший гахновец Густав Шпет и его единомышленники, за «снобизм точности». В 1940–1950-е годы слово «буквализм» применительно к переводческой работе окончательно стало ругательством, аналогичным «формализму» и «натурализму» в литературоведении.
Победа реалистического перевода отчасти была связана с политическими причинами. Вольное обращение с оригиналом предполагало, что неприемлемые с идеологической точки зрения фрагменты можно было скорректировать или просто убрать. Но Баскина обращает внимание и на другой момент: «буквалистские» переводы рассчитаны на аудиторию, знающую иностранные языки, чего нельзя было сказать о значительной части советских читателей того времени.
2
Основную часть сборника составляют публикации архивных материалов советских переводчиков и переводоведов-филологов: Дмитрия Усова, Бориса Ярхо, Густава Шпета, Дмитрия Святополка-Мирского, Дмитрия Горбова и других. В одних случаях это неопубликованные фрагменты переводов, в других — работы, посвященные теории перевода. Каждая публикация сопровождается вступительной статьей. Я остановлюсь на тех из них, что показались мне наиболее интересными.
Петр Будрин рассказывает о малоизвестном эпизоде из биографии Густава Шпета — работе над двухтомником сочинений Лоренса Стерна, который предполагалось опубликовать в издательстве Academia в начале 1930-х годов. Шпет должен был перевести «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», но не смог закончить работу из-за ареста. Опираясь на черновики перевода и заметки Шпета, Будрин не только предпринимает попытку реконструировать шпетовский метод перевода, но и рассматривает нереализованный переводческий проект в общем контексте интеллектуальной биографии философа: «Методологическое основание шпетовского подхода к английскому автору, безусловно, продиктовано гегелевской диалектикой. Автор „Тристрама Шенди” обращен к культуре прошлого, но в то же время прокладывает дорогу в будущее, в XX век. В свете биографии Шпета и других не-маркистских интеллектуалов 1930-х годов, в описании „жизненного приема”, составляющего „внутреннюю форму” остроумия Стерна, можно увидеть своего рода автобиографическую проекцию».
Большинство героев сборника жили и работали в Москве или Ленинграде, но есть и несколько исключений. Александр Кальниченко посвящает большую статью дискуссии о художественном переводе в Украине в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Тогда конкурировали две переводческие стратегии: гомологическая и аналогическая. Сторонники первого подхода, среди которых Кальниченко выделяет Владимира Державина, доказывали, что при переводе необходимо сохранять художественное своеобразие оригинала и «всей связанной с ним литературной эпохи». Александр Финкель, один из главных оппонентов Державина, указывал на недостижимость такой цели и необходимость поиска аналогичных художественных средств в том языке, на который переводится текст. Кальниченко отмечает, что в начале 1930-х годов дискуссия о переводе в Украине была постепенно свернута, когда Москва санкционировала кампанию против «националистических уклонов» (в ходе полемики речь шла о переводе на украинский язык). Правда, сложно согласиться с утверждением Кальниченко о том, что в начале 1930-х «ввиду краха идеи мировой революции и возникновении теории о возможности построения социализма в... отдельно взятой стране» в СССР стал снижаться интерес к переводам с западноевропейских языков. Описанное исследователем нарастание изоляционистских тенденций характерно скорее для конца десятилетия, тогда как в середине 1930-х шла широкомасштабная кампания по «освоению литературного наследства», важную роль в которой играл перевод произведений из западноевропейского канона.
Михаил Ефимов, недавно опубликовавший биографию Дмитрия Святополка-Мирского, разбирает его доклад «Пушкин как переводчик английских поэтов» (1936). Мирский утверждал, что переводчик может по своему усмотрению сокращать переводимый текст, то есть отстаивал подход, прямо противоположный «буквалистскому». Ефимов доказывает, что доклад необходимо рассматривать в контексте полемики вокруг собрания сочинений Шекспира. Мирский, специализировавшийся на английской литературе, был привлечен к проекту в качестве консультанта; редакторами стали Александров Смирнов и Густав Шпет, отстаивавшие принцип эквиритмии. Мирский раскритиковал перевод Шекспира и назвал требования редакторов «вредительскими». Ефимов подчеркивает горькую иронию ситуации: «Московские процессы шли вовсю. Знал ли Мирский, что он делает, обвиняя во вредительстве Смирнова и ссыльного Шпета? Приходится сказать: да. Мог ли Мирский предугадать, что через год после выступления... за Шпетом придут, и на сей раз — окончательно, и это случится меньше чем через полгода после ареста самого Мирского? Вопрос риторический».
Рецензируемое издание — важное событие в области изучения советских переводов. Редакторы и авторы проделали огромную работу по публикации и комментированию малоизвестных текстов, проливающих свет на дискуссии о переводе 1920–1930-х годов. Конечно, сборник рассчитан прежде всего на специалистов. Как кажется, для первого знакомства с историей советских переводов больше подойдет обзорная (в хорошем смысле слова) книга Азова «Поверженные буквалисты», после которой можно сразу браться за «Художественно-филологический перевод».