Красные колонии на тысячу лет
О «Центральной Азии» Адиба Халида
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Адиб Халид. Центральная Азия. От века империй до наших дней. М.: Альпина нон-фикшн, 2024. Перевод с английского Анны Поповой. Содержание
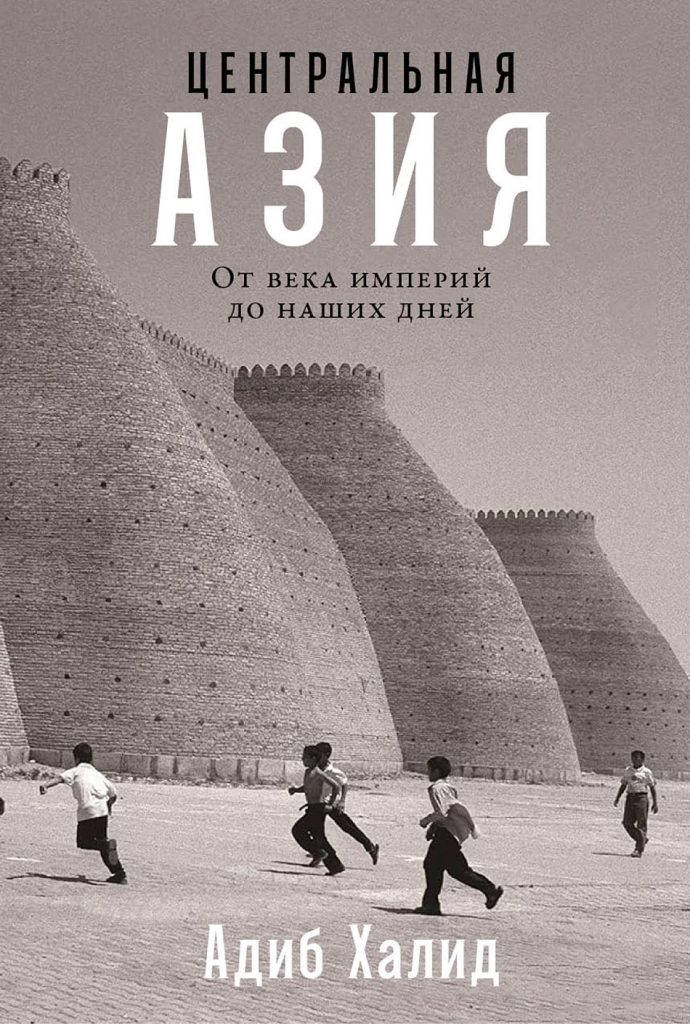 Деколониальный дискурс, как нетрудно заметить, из инструмента описания мира на глазах превращается в стройную систему манипуляций, апеллирующих к моральному чувству. В этом нет ничего удивительного, уникального или страшного — у каждой эпохи есть подобный костыль, помогающий держаться на ногах, когда в общественном сознании образуются интеллектуальные дыры. Критическая теория, постструктурализм, антиглобализм — все это вполне адекватные реакции на смысловую перегруженность мира, который хорошо бы упростить.
Деколониальный дискурс, как нетрудно заметить, из инструмента описания мира на глазах превращается в стройную систему манипуляций, апеллирующих к моральному чувству. В этом нет ничего удивительного, уникального или страшного — у каждой эпохи есть подобный костыль, помогающий держаться на ногах, когда в общественном сознании образуются интеллектуальные дыры. Критическая теория, постструктурализм, антиглобализм — все это вполне адекватные реакции на смысловую перегруженность мира, который хорошо бы упростить.
Вот только деколониальный дискурс как-то особенно быстро преодолел все стадии внутреннего развития, превратившись в ничего по сути не значащий маркер, в одно из ключевых слов, предваряющих текст научной работы, на которую сошлется лишь сам автор в своей следующей статье.
И это печально, ведь явления, для описания которых когда-то возникла эта дисциплина, никуда не исчезли. Хорошо, что книги работающего в США профессора пакистанского происхождения Адиба Халида не только демонстрируют интеллектуальный и научный потенциал деколониальных исследований, но и попутно развенчивают многие мифы, сгенерированные в порядке политического и академического конформизма.
В «Центральной Азии» Адиб Халид не только обобщает изложенное в его предыдущих книгах (на русском в разные годы выходили «Ислам после коммунизма» и «Создание Узбекистана»), но и проводит ревизию знаний и ложных знаний, накопленных его коллегами.
Колониализм нередко редуцируется до двух противоположных трактовок. Это либо системное насилие, присвоение ресурсов и безжалостная эксплуатация покоренных народов (если вы противник колониализма), либо привнесение благ цивилизации и порядка в безрадостную, хаотичную и, как правило, короткую жизнь людей из отсталых обществ, которое неизбежно сопровождается сопутствующим ущербом (если вам симпатичны имперские нарративы). Адиб Халид предлагает более сложное определение термина «колониализм»:
«Мы будем обозначать им совокупность практик и концепций, возникших в XVII веке, в рамках которых европейские империи начали осмыслять огромные непреодолимые различия между метрополией и колониями (и колониальными подданными). Эти различия рассматривались с точки зрения цивилизации, расы и этнической принадлежности, и под них все чаще подводились научные основания. <...> Между претензиями насадить среди туземных народов просвещение и ощущением того, что различия непреодолимы в принципе, сохранялась некая напряженность, и, похоже, оказывалось, что уже и не столь важно, какого прогресса добились аборигены: все равно им было еще очень и очень далеко до подлинной цивилизации».
Таким образом, важное свойство колониализма заключается в том, что колониализм никогда не заканчивается, это вечно длящееся состояние. Здесь можно предположить: оно, это состояние, не заканчивается и с юридической ликвидацией империй, продолжая жить в иных формах — в виде корпораций, экономических институтов, культурных парадигм и так далее. Когда прекратила свое существование Российская империя, на ее месте возник Советский Союз, который, с одной стороны, демонстрировал решимость деколонизировать сферы своего влияния (иногда даже не на словах, а на деле), а с другой — имел явные черты новой империи, и не только в качестве риторической фигуры. Особенно ярко и отчетливо это мерцание советского проекта проявилось в Центральной Азии, в которую прежде всего включают ныне суверенные Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Монголию, а также совсем теперь не суверенные Синьцзян и Тибет.
Вообще, регион, которому посвящена книга Адиба Халида, как никакой другой демонстрирует экстремальную сложность колониальных отношений. Центральная Азия годами подчинялась сразу трем империям: Османской, Российской и Цинской. Последняя при этом сама была жертвой империализма — британского и российского.
Удивительно, но этой сложности как будто не замечают многие берущиеся за исследование региона — пестрого, неоднородного, под завязку наполненного внутренними противоречиями. Один из вредных мифов, рожденных таким взглядом, если верить Халиду, воспроизводит «большинство авторов за пределами бывшего Советского Союза». Он гласит: политика советских властей в отношении Центральной Азии служит ярким примером воплощения в жизнь циничного имперского принципа «разделяй и властвуй». С точки зрения авторов, поддерживающих этот нарратив, предпринятое большевиками территориальное деление по национальному признаку преследовало цель нарушить единство народов Центральной Азии и не позволить им сплотиться в борьбе за независимость. Отдельные исследователи также указывают на произвольность проведения границ национальных республик, что, по зловещему замыслу большевиков, должно было обострить до предела уже существующие противоречия.
«Проблема такого рода нарратива состоит в том, что он абсолютно неверен, — заключает Адиб Халид. — Перекройка границ не имела ничего общего со страхом перед единством Центральной Азии, поскольку такого понятия не существовало».
Отношения между советской метрополией и периферией, доказывает Халид, не вписывались в привычные рамки «тотальная власть — тотальное подчинение», более-менее очерченные в колониальной истории Африки или Индии.
Большевики как минимум на бумаге декларировали революционное переустройство всего мира, а не отдельных его частей. Это отражалось в самом названии — Союз Советских Социалистических Республик, едва ли не первом в истории самоназвании государства, лишенном географической привязки. До поры до времени это давало большевикам своего рода индульгенцию от обвинений в колониально-захватнической политике.
Иногда ранняя советская власть даже переходила от слов к делу: «В течение 1921—1922 годов до 30 000 [русских] поселенцев депортировали из Семиречья и еще 10 000 из других районов Туркестана. В этом вопросе советская власть максимально приблизилась к деколонизации».
 Туркестан в 1917 году
Туркестан в 1917 году
Еще через год партия объявила курс на коренизацию республик: преподавание в школах, судопроизводство и другие сферы общественной жизни были «дерусифицированы», активно поощрялось использование национальных языков. «Историк Терри Мартин, — пишет Халид, — назвал эту политику первой в мире программой позитивных действий. Обещания так и не были полностью выполнены, и в 1930-х годах политику свернули. <...> Помимо территориальной автономии, коренизация должна была радикально изменить баланс сил между имперской метрополией и ее колониальной периферией, и благодаря этому на сторону Советов удалось привлечь много молодежи, которая испытывала искренний энтузиазм».
Сам факт подобной попытки свидетельствует о том, что ранняя советская власть стремилась демонстрировать свое радикальное отличие от власти дореволюционной, которая предпочитала говорить с периферийными народами на русском языке. (В этом смысле весьма показательно, что уйгурский национальный проект зародился не в Синьцзяне, с которым ныне ассоциируется, а в Советском Туркестане.)
Однако еще до сталинского переформатирования национальной политики, катастрофическим апогеем которого стала коллективизация (в Центральной Азии призванная нивелировать различия между кочевниками и оседлыми жителями), находились те, кто отчетливо видел если не истинные намерения Москвы, то логичное завершение начатых преобразований:
«Агенты ОГПУ начали сообщать о кулуарных разговорах членов партии и других лиц, что Узбекистан-де как поставщик хлопка превратился в красную колонию, не лучше (а то и хуже) чем Египет или Индия под британским правлением. Некий Мирзо Рахимов вышел из партии в 1928 году из-за несогласия с основной политикой. „Узбекистан — социалистическая колония, — заявил он, — и не обладает независимостью“».
Действительно, как и в царской России, в экономическом отношении Узбекская ССР оказалась «хлопковым» придатком метрополии. Но и здесь особую роль сыграла социалистическая специфика советской империи — ей посвящены интереснейшие страницы этого труда Адиба Халида.
Хлопок стал проклятьем Узбекистана: госплан выдвигал все более неподъемные требования по его выращиванию, в конечном счете адаптировав всю республиканскую экономику под производство едва ли не единственного товара. В годы заката Советского Союза последствия этой политики оказались сколь очевидны, столь необратимы: «В 1984 году в Узбекистане производилось 70% хлопка во всем Советском Союзе и всего 4% текстиля».
Но, как ни странно, тот же хлопок предоставил республике плацдарм для политической автономии и в конечном счете суверенитета. В годы застоя между центральными и республиканскими властями возник консенсус: «Национал-коммунистические элиты могли управлять своими республиками без лишнего вмешательства со стороны центра до тех пор, пока выполняли свои производственные квоты, не предъявляли центру радикальных требований и держали национализм в узде».
В Центральной Азии сталинский тезис «национальное по форме, социалистическое по содержанию» таким образом приобрел самые причудливые черты. «Красные колонии» демонстрировали двойственность современного колониализма вообще:
«Национальность была не просто вопросом нарратива об историческом прошлом и прославления аутентичности. Она стала укореняться в повседневных социальных практиках. Если политика партии и государства признавала и во многом подтверждала национальные обычаи и традиции, то командная экономика заложила основу для укрепления традиционного образа жизни, особенно в сельской местности. Советская экономика с ее вечным дефицитом создала необходимость в социальных сетях, основанных на семьях и сообществах, чтобы получать доступ к товарам и услугам, которые нельзя было достать за деньги. В сочетании с упором на сельскохозяйственное производство советская система породила глубокий социальный консерватизм в среднеазиатском обществе».
 Гора хлопка-сырца в совхозе под Самаркандом, 1972. Фото: Фрэнк Баумгарт/humus.livejournal.com
Гора хлопка-сырца в совхозе под Самаркандом, 1972. Фото: Фрэнк Баумгарт/humus.livejournal.com
В поздние годы советского строя эта амбивалентность зафиксировалась в том, что рядовой житель Центральной Азии мог быть коммунистом, оставаясь при этом верующим мусульманином, прогрессивистом в общественной жизни, одновременно обустраивая патриархальный быт, носить европейское платье, соблюдая традиционные обычаи, — и так далее.
(Эта двойственность, абсурдная и при том на удивление органичная, зафиксирована, например, Чингизом Айтматовым в романе «И дольше века длится день»:
«— Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.
— Молиться? Ты, Буранный Едигей?
— Да, я. Я знаю молитвы.
— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, советской власти.
— Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!
— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми».)
Эту специфику нередко игнорируют не только современные деколониальные исследователи, но и специалисты в совсем других областях, несущие не столь гуманистические идеалы. Когда американские военные планировали «афганскую ловушку», они сделали ставку на мусульманское население Советского Союза: «ястребы» полагали, что мобилизованные из Центральной Азии как минимум будут массово дезертировать, а в идеале обратят оружие против атеистической власти. Ни того ни другого не случилось. Адиб Халид приводит результаты социологических исследований, объясняющий провал хитрого плана по радикальной дестабилизации советского государства в Центральной Азии. Их респонденты, участвовавшие в Афганской войне, объясняют свою мотивацию очень просто: в Афганистан они шли не как мусульмане, но как советские граждане. Чувство гражданского долга у них подкреплялось коллективной памятью о Великой Отечественной войне, когда их старшие родственники точно так же были мобилизованы в состав многонациональной Красной армии. Пусть афганская кампания была непопулярной в Советском Союзе, но в азиатских республиках ее непопулярность была отнюдь не выше, чем в среднем по «тюрьме народов».
В наши дни участие представителей «национальных меньшинств» в реальных боевых действиях на стороне метрополии по-прежнему становится предметом споров и спекуляций разной степени убедительности. Похоже, постепенно оформляется доминирующий тезис о том, что мобилизация периферийных народов империи — продолжение колониальной политики. Представители угнетенных народностей, служащие в составе государственной армии, в условиях войны, таким образом, оказываются не носителями системного насилия, но жертвами. Надо заметить, подобная логика понятна, но содержательно она как будто противоположна общему деколониальному пафосу — обеляясь подобным образом, люди, словно в продолжение колониального дискурса, лишаются субъектности, а их виктимное положение направляется в сторону дурной бесконечности.
Меж тем, указывает Адиб Халид, прогрессивные силы Центральной Азии прекрасно понимали, каким реальным потенциалом обладает военная служба в деле признания субъектности покоренных народов:
«В феврале 1915 года [участники национально-освободительного движения „Алаш“] Ахметжан Байтурсынов и Алихан Букейханов отправились в Петроград (когда началась война, столица империи избавилась от немецкого названия), чтобы обратиться в Военное министерство с просьбой о призыве казахов на военную службу. Они надеялись, что воинский призыв избавит казахов от статуса инородцев и они таким образом смогут добиться представительства в Думе и получить право голоса в обсуждении переселенческой политики и земельного вопроса. Министерство сочло казахов чересчур отсталыми для участия в современной войне (их кочевой образ жизни представлялся серьезным недостатком, как и то, что они не владели русским языком), и петиция успеха не возымела».
Напротив, советская власть прекрасно понимала значение милитаризации как признания равенства наций. Как нетрудно заметить на примере все той же Афганской войны, она действительно сыграла ведущую роль в том, чтобы в экстремальных ситуациях обеспечивать лояльность тех, кто вроде бы для этой самой лояльности не имеет объективных причин.
Трансформация российского империализма в советский — лишь одна из линий многослойного повествования Адиба Халида, но мы решили остановиться именно на ней как на дающей немало поводов для размышлений об исследователях, занимающихся деколониальными науками в пространстве, образованном на месте советской империи. Если для разнообразия отойти в этих исследованиях от публицистики и обратиться к плотному историческому материалу, станет немного яснее, почему, скажем, в разгар холодной войны Советскому Союзу удавалось успешно экспортировать свои ценности в страны третьего мира — даже особо не лукавя, говоря, что построение социализма (читай: более справедливого общества) возможно даже в тех краях, где никогда не было пролетариата как класса.
Демонстрация подобных сложностей вряд ли придется по душе тем, кто ищет простых решений, дающих ключ к подлинной деколонизации мира в виде финансовых и культурных репараций. Кто-то наверняка обвинит Адиба Халида в недостаточной радикальности, а то и в попытке реабилитировать империализм как таковой. Разумеется, в книге Халида нет ни конформизма, ни тем более колониальных симпатий. А вот материала для качественного пересмотра вредных, а порой, как видим, и опасных стереотипов — хоть отбавляй.