Кошка съела котят и не знает сама зачем
Лев Оборин — о четырех поэтических новинках
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Бараш. Чистая радость. М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии; Пальмира, 2022
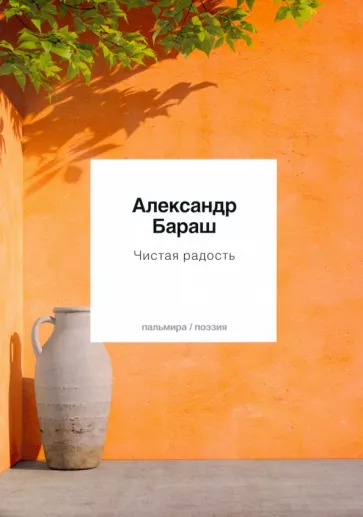 В этой рубрике мы уже писали об Александре Бараше как о переводчике Иегуды Амихая — и немного говорили о собственных его стихах. «Чистая радость» — книга новых стихотворений и избранных текстов из предыдущих сборников. Можно было бы сказать, что она основана на «средиземноморской ноте» — мягком, но все время присутствующем ощущении пространства; припомнить того же Амихая и, может быть, Кавафиса. Но пространство здесь важно в первую очередь потому, что вызывает к жизни более важную тему: осмысление памяти, ее нелинейность и сложность. Израильский пейзаж — константа, которая по-своему меняет понимание событий, пытающихся оставить на этом пейзаже свои отметины.
В этой рубрике мы уже писали об Александре Бараше как о переводчике Иегуды Амихая — и немного говорили о собственных его стихах. «Чистая радость» — книга новых стихотворений и избранных текстов из предыдущих сборников. Можно было бы сказать, что она основана на «средиземноморской ноте» — мягком, но все время присутствующем ощущении пространства; припомнить того же Амихая и, может быть, Кавафиса. Но пространство здесь важно в первую очередь потому, что вызывает к жизни более важную тему: осмысление памяти, ее нелинейность и сложность. Израильский пейзаж — константа, которая по-своему меняет понимание событий, пытающихся оставить на этом пейзаже свои отметины.
Поля дольменов.
Перманентное повторение
знака П —
пре-историческая память
неизвестно о чем.
Все, что было потом,
распалось, рассеялось. А этот
перформанс
мегалитических призраков —
карточные домики
из каменных блоков —
пережил, переживает и,
похоже, переживет
преходящих потомков.
В то же время этот пейзаж можно, как при фотомонтаже, наложить на другое изображение: «Старый Город наслоился / на рощи Сокола и поля Аэропорта. / Под Дворцом Ирода подземная река Ходынка — / каменная труба в скале в Долине Иосафата». Такой эксперимент — отражение «перемешанной» памяти, которая часто нуждается в упорядочивании, но еще чаще — в наблюдении, как стихия, определяющая человека.
Вспоминать и думать о вспоминании — вот задача Александра Бараша в этих стихах, и в этом смысле можно сопоставить их с «Памяти памяти» Марии Степановой. Здесь есть много стихотворений-эссе, отличающихся от простых «зарисовок» личным отношением к их предмету: оно углубляет все увиденное, подверстывает его в словарь метафизических дефиниций («Облако эвкалипта повисло у балкона. / И ровно шумит кондиционер, сердце / квартиры. День разгорается, / как спор личного пространства / с безличным временем»). Переходя к событиям из собственной биографии, поэт задает вопрос: «Что это было?» Обращаясь к ушедшим любимым людям, он спрашивает: «Как я их помню?» — и, не претендуя на открытие универсалий, проговаривает что-то, вероятно, болезненно знакомое многим, кто пережил потерю. Так «Как я помню?» превращается в «Как мы помним?»:
Когда я пытаюсь тебя вспомнить,
ты превращаешься в меня —
в мое отношение к тебе.
Тебя почти нет.
<...>
Остался
виртуальный образ
на нетвердом диске
в мозгу,
там несколько папок
с картинками и короткими видео,
будто снятые на мобильный.
Твоего лица чаще всего нет.
Ты где-то совсем рядом,
сбоку, за спиной... вокруг:
какие-то комнаты, улица и
облако твоего присутствия.
Я внутри него,
как будто ты все время
меня обнимаешь
А я своих детей,
а они своих.
Перед нами эмпатия к ушедшим — через род, через возраст («Я сейчас в том же возрасте, / в каком ты была в моем детстве, / а все греюсь то ли теплом вашей любви, / то ли уютом той безнадежности»).
«Картинки и короткие видео» — удобное сравнение, подсказанное современными медиа. Несколько лет назад вышла книга антрополога Сергея Лишаева «Помнить фотографией». Процесс проявки фотографий в одном из стихотворений Бараша сравнивается с переживанием пейзажа, в котором смена времен года проявляет что-то новое. Так или иначе, в «полях дольменов» и на склонах долины Эмек Рефаим «ничто полностью не исчезает». Мысль о прошлом, которое сохраняется в геологии пейзажа или в археологических свидетельствах, приводит Бараша к мысли о метемпсихозе — переселении и вечном бытовании душ: душ горожан, монахов, птиц, знакомых и незнакомых. Они по-прежнему наполняют эти пространства, в которых «при жизни разлит засмертный покой», и залогом спокойствия становится знание: «скоро и мы / растворимся в воздухе».
Вера Маркова. Пока стоит земля: Избранные стихотворения и переводы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022
 Вера Маркова — одно из главных имен в русской японистике: переводчица и комментатор Басё, Сэй-Сёнагон, Иссы. Теперь в полном объеме приходит к читателям и ее поэтическое наследие. Собственные стихи оставались для Марковой частным делом: она начала писать их в детстве, потом вернулась к ним в 1940-х и мало кому показывала. «Случается, говорят, певцы на сцене петь не могут, горло сжимается. Если б я думала, что пишу для печати, то сработал бы сходный рефлекс: не могу!» Только в 1992 году, когда ей было уже 85 лет, вышла ее книга «Луна восходит дважды», изданная за свой счет. Том, выпущенный Издательством Ивана Лимбаха, стал возможен благодаря тщанию «неравнодушного к поэзии Веры Марковой читателя, превратившего домашний архив поэта в первоначальную рукопись».
Вера Маркова — одно из главных имен в русской японистике: переводчица и комментатор Басё, Сэй-Сёнагон, Иссы. Теперь в полном объеме приходит к читателям и ее поэтическое наследие. Собственные стихи оставались для Марковой частным делом: она начала писать их в детстве, потом вернулась к ним в 1940-х и мало кому показывала. «Случается, говорят, певцы на сцене петь не могут, горло сжимается. Если б я думала, что пишу для печати, то сработал бы сходный рефлекс: не могу!» Только в 1992 году, когда ей было уже 85 лет, вышла ее книга «Луна восходит дважды», изданная за свой счет. Том, выпущенный Издательством Ивана Лимбаха, стал возможен благодаря тщанию «неравнодушного к поэзии Веры Марковой читателя, превратившего домашний архив поэта в первоначальную рукопись».
Отгороженность и от официального, и от неофициального литературного процесса стала для стихов счастливым обстоятельством. «Стихи Веры Марковой пропитаны тем трагическим восприятием происходящего, которого молодые шестидесятники просто не знали», — пишет в предисловии Ольга Седакова. При этом с шестидесятниками Маркову, родившуюся несколькими десятилетиями раньше, многое роднит: и некоторая сентенциозность, и переклички с самыми свободными голосами в официальной советской печати (например, со Слуцким), и предвосхищение риторических путей в поэзии неофициальной. Утрируя, можно сказать, что Маркова пишет стихи Галича за несколько лет до Галича — иногда с текстуальными совпадениями:
Если голос прохожий, —
О, у голоса королевская власть! —
В этот голос похожий
Головою в колени, как в детстве, упасть.
Оттого, что вечен,
Оттого, что он — не ты и не я,
Возвращается ветер.
Возвращается ветер
На круги своя.
Или:
Ну что ж! Гордитесь,
Вы не стукачи.
Вы не из тех отцов,
Не из прихожей,
Печальники у собственной печи,
Молчальники с тончайшей кожей.
Такие тексты, как и, например, стихотворение 1949 года к юбилею Пушкина («Когда, замуровав окно в Европу / И самый воздух наглухо забив, / Мы барабаном заглушаем ропот / И славим тех, кто счастлив, что не жив...»), были, разумеется, совершенно «непроходными» и попросту опасными. «У Веры Марковой стихи той поры, когда шаги, шаги, шаги — и сердце замирает от страха», — писал Генрих Сапгир. Эта самая пора сказывается и в текстах позднесоветских десятилетий: «Я еще помню тихое небо, / Я еще помню малиновый звон. / Это кажется счастьем. / А счастья не было. / Было преддверие похорон».
Но причина «непубликабельности» Марковой, думается, не в этом. Вершина ее гражданской поэзии — поэма в шести частях «Луна восходит дважды», где рассказывается о жизни женщины, у которой один муж был репрессирован, другой убит на войне; женщина, судя по всему, работала в типографии — и шаг вступительной части напоминает типографский эпизод из «Зеркала» Тарковского. Так вот, «Луна восходит дважды» — вещь в первую очередь о частной судьбе, несчастной и незаметной, каких было много; Маркова не делает из нее показательную притчу, как тот же Галич в «Веселом разговоре». Эта судьба таится в рукописи, как таилась в жизни героини. Маркова была далеко не только «гражданским» поэтом, и приватность наблюдателя — едва ли не основная черта ее поэзии, созданной в «года глухие» XX века.
Если говорить о формальных особенностях стихов Марковой, то можно заметить, что она работала с двумя манерами: верлибром / белым акцентным стихом (эта манера характерна для 1960–1970-х) и рифмованным стихом, иногда выдержанным в ультратрадиционалистском ключе (так Маркова пишет в начале и в конце своего поэтического пути — в 1940–1950-е и в 1980–1990-е). Письмо первого типа тяготеет к афористической простоте, иногда на уровне Арво Метса:
Амфитеатром —
Пустые стулья.
А где-то
Над берегом золотоносной Леты
Поют твои
Львиноголосые соловьи —
И камни —
Еще горячи на ощупь.
Вероятно, на это письмо повлияли и занятия переводами — у Марковой встречаются стихотворения-зарисовки, написанные с оглядкой на классическую японскую лирику: «На берегу далекой реки / Тихо. / Волна забита в колодки. / Блеснет на миг, / Как вложенный в ножны кинжал, / Рыба — и пропадет». Письмо второго типа, наоборот, отягощено европейской архаичной риторикой, оно чаще говорит о религиозных, этических, поэтологических категориях:
Сестра и брат — Гармония и Хаос,
Кто старше? Кто кого переживет?
Что ж! Родилось и, кажется, распалось,
Качнулся мир, но музыка — оплот.
Ловлю ее в стихе, в сумбурной речи,
Но знаю, лучше слышит соловей.
Ему дано. Еще он недалече.
Он маленький судья семьи своей.
Еще он здесь. У старого колодца.
Как бы спешит все оплатить с лихвой.
Мы прощены, и песня остается,
И разговор меж мною и тобой.
Поэзия Марковой как бы путешествует между полюсами лаконизма и велеречивости, эксперимента и традиции, сдержанности и экспрессии — но никогда не доходит до самого полюса. Может быть, это тоже знак времени, когда лучше было вести себя тихо, — а может быть, перед нами тот случай, когда идеальное выражение собственной поэтической энергии было найдено не в собственном творчестве, а в переводах. Том Марковой завершается избранными переводами из Эмили Дикинсон и Басё — авторами как раз во всем противоположными. Марковой, может быть, удалось ближе всех русских переводчиков подойти к Дикинсон — с ее движением порывами, стремлением выйти из формальной рамки:
Ликование Свободы —
Это к морю — путь души —
Мимо мельниц —
Мимо пастбищ —
Сквозь ряды крутых вершин.
Мы росли в кольце долины.
Разве моряки поймут
Упоенье первой мили —
Первых Вечности минут?
Эмблематические же хайку Басё, о которых «хайдзин говорит: „Это тайна, словами этого не выразишь“», требуют иного перевода: Маркова отказывается от сохранения формальной схемы слогов оригинала, но стремится к конгениальной японскому тексту лаконичности, за которой может стоять объяснение: как это сделано, как здесь проявлено «саби» — сочетание изысканности и простоты, наслаждения и печали? К переводам Басё приложена статья, где Маркова разбирает самое известное его хайку «Старый пруд». Таким образом, книга представляет ее и как тонкого филолога.
Софья Суркова. Лазурь и злые духи. М.: ОГИ, 2022
 Этой книгой издательство «ОГИ» начинает совместную серию с журналом «Флаги», где Суркова — одна из постоянных авторов. «Лазурь и злые духи» — дебютный сборник Софьи Сурковой, и у него есть достоинство лучших дебютов: смелость.
Этой книгой издательство «ОГИ» начинает совместную серию с журналом «Флаги», где Суркова — одна из постоянных авторов. «Лазурь и злые духи» — дебютный сборник Софьи Сурковой, и у него есть достоинство лучших дебютов: смелость.
Слова Оксаны Васякиной, предваряющие сборник, — «Суркова не только продолжает традицию Хлебникова, она переприсваивает ее и делает современной», — это, конечно, очень щедрый аванс. Но аванс не без оснований: Суркова в самом деле кое-что берет у Хлебникова и делает ему сознательные оммажи. Например, в книге есть «Сверхповесть для М», состоящая, как и у Хлебникова, из плоскостей — то есть отдельных поэтических повестей, из которых складывается текст более высокого порядка. Здесь же мы можем видеть, как Суркова работает с футуристическим словотворчеством:
Взвечный волосяной хруст сливень —
сахарный сок
на засохших ресницах холма;
и солнце озирается, и слёзы...
Я обращаюсь к холму:
заговори, чтобы я тебя узнала.
и молчит он, и не говорит,
и слышится только: вры и рвы
гла и мгла
Впрочем, на соседней странице встретится объявление «плюгавая лимита ищет работу», а в словотворчестве нет-нет да и проскочит постмодернистское подмигивание: «гли́цкая е́здра чахне́я уру́живает» — привет академику Щербе. Когда Суркова крошит и сращивает слова, припоминается сказанное ей по другому поводу: «потому что на моем языке / изувечить значит восславить» — а это уже привет Гронасу с его «между тем на нашем языке / забыть значит начать быть» (ломка слов означает их трансмутацию). Такие вкрапления принципиально взламывают стилистическое единство: мы имеем дело, так сказать, с поэтической многозадачностью. Другим способом взлома служит инкорпорирование в текст фотографий — на правах отдельных частей стихотворения.
Но еще знаменательней мотивы книги. Вновь точное предисловие Васякиной: «Поэтика Сурковой — это поэтика торжества слизи и мягких тканей. Ее стихи — это стихи подлеска. Эти стихи сексуальны: они влажные, как мшистая расщелина между камнями, они темные и запутанные, словно ходы насекомых в почве». Здесь уместнее проводить параллели не с Хлебниковым, а с его последователем Хармсом: стихия воды, влаги для него была связана с сексуальностью. В книге Сурковой мы встречаем несколько повторяющихся водных/влажных/болотных мотивов, явно или неявно эротизированных. Это жаба («трехпалая жаба сидит в опрокинутой зелени / в выгнутой червленой перевязи / процветшая и противопроцветшая алычой»; «и снежинки / как зонтичные растения, / опускааясь на жабий йазык, становятся — / тмин, борщевик, водолюб»; можно вспомнить, что жабья слизь — афродизиак в нескольких традиционных культурах). Это человеческие жидкости и выделения — так или иначе связывающие человека со сферой чувственного, со всем ее двоемирием: «В смешении менструальной крови и спермы / есть нечто хтоническое: / действо приобретает ритуальный окрас»; «третьи молчали / и занимались сексом в пригоршне оливок / и везде-отовсюду жался их сок / густой, / как черное коровье масло»; «вчера я видела дождь в уголках глаз». Это погружение в водоемы — пресные и соленые, с их тиной и запахами:
я щурюсь и вижу: рыночная площадь среди четырех морей
в первом море обитают русалки
их вагины устроены как у дельфинов
они выступают из хвоста открываясь между чешуек
во втором море балагур, вооруженный мотыгой, постоянно переживает катастрофу
в третьем море происходят: перманентная революция и хлипкая хлипкая оргия
в результате которой женщины все время беременеют но никогда не вынашивают своих детей
в четвертом море монетный двор
тысячи лет а он не отчеканил ни гроша
мерзость
Атмосфера книги Сурковой — сновидческая фантасмагория («Мы в клипе Björk» — характерное признание). Кошмар, в котором «мракота Ышла / зачемная, / мокнута!» и из которого невозможно выбраться, все же предпочтительнее, чем «идея родного дома», которая снаружи сна «давит / как бетонная плита» (отголосок этой идеи — в приложении к книге, документальной поэме о рехабе и его пациентах, методично перечисляющих, во сколько лет какие наркотики они попробовали). В логику сна встраиваются и сюрреалистические названия стихотворений, в духе Уоллеса Стивенса. Книга открывается программным стихотворением «Зимний сад»: «зимний сад полон белыми мышками / сад охраняет гигантский комар с глазами навыкате / и глазом на спине». Фантасмагории нужен соответствующий бестиарий: наравне с животными, будто позаимствованными у Фюсли, здесь водится, например, «тростиночка-твигги», а если животных и людей не хватает, их можно придумать:
Слоно́вики обладают десятью тысячами полов
и рождаются
не от себя, а от великой идеи
(вам бы увидеть в ней
благородную новизну, но ц-апля
напомнит, что их смысл — халтура).
Слоновики тождественны и днями
нацеловывают друг друга.
Придумывание животных — детское занятие, и фантасмагория Сурковой — это фантасмагория, не расставшаяся с детством: одиноким фантазиям такого рода посвящен цикл «Ритуалы». С этим мотивом, наконец, связана и центральная вещь книги — заглавная поэма «Лазурь и злые духи», построенная как цепочка обращений говорящей к собственной душе. Душа становится здесь одинокой овечкой по имени Лазурь — и ей предстоит встретить «злых духов / и разные траблы», пройти через опасное пространство, которое Суркова будто специально выстраивает для такого путешествия, как гейм-дизайнер. И в этом ландшафте важно услышать: «Душа моя, / ты выше того, что с тобой происходит» — слова, которые преодолевают барьеры других слов, лексические маркеры разных эпох (как овечка во сне прыгает через забор).
В конечном итоге это самая важная мысль книги — и мысль утешительная. Слово «Лазурь» пусть не лазурным, но белым напечатано на черно-серой обложке. Как писала Хельга Ольшванг, «голубое это белое».
Алла Горбунова. Книга царства. М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии; Пальмира, 2023
 Новая книга Аллы Горбуновой отчетливо разделяется на две части — стихи 2021 и 2022 года. Читая первую часть в 2023-м, заранее настраиваешься на то, что встретишь предчувствия катастрофы. Кажется даже — если отбросить установку на беспристрастный анализ, — что для поэзии Горбуновой, всегда интересовавшейся потусторонним (откуда приходит дар предвидения), такое предчувствие неизбежно. Начало книги действительно располагает к такому прочтению: «Книга царства» начинается с коротких, отстроенных вокруг одного образа текстов, которые напрашиваются на аллегорическую трактовку.
Новая книга Аллы Горбуновой отчетливо разделяется на две части — стихи 2021 и 2022 года. Читая первую часть в 2023-м, заранее настраиваешься на то, что встретишь предчувствия катастрофы. Кажется даже — если отбросить установку на беспристрастный анализ, — что для поэзии Горбуновой, всегда интересовавшейся потусторонним (откуда приходит дар предвидения), такое предчувствие неизбежно. Начало книги действительно располагает к такому прочтению: «Книга царства» начинается с коротких, отстроенных вокруг одного образа текстов, которые напрашиваются на аллегорическую трактовку.
«кошка съела котят и не знает сама зачем / теперь ищет их, снова хочет любить, ласкать» — это можно прочитать, например, как аллегорию отношения родины к людям (в контексте известного предсмертного высказывания Блока). Но последующие стихотворения в таком прочтении разуверяют. В самом деле, материнство и детство в «Книге царства» — одни из основных мотивов, но Горбунову интересует в первую очередь их метафизика, их ощутимая связь с иномирием.
и листья внизу вслед за ним шелестят
пластинкой как в детстве весь день за стеной:
есаул есаул что ж ты бросил коня
но в этой песне услышала я
лишь одно:
лес ау, лес ау
Лес как вход в иной мир — краеугольный фольклорный мотив; в лесу можно прожить (проспать) целую жизнь, и не только свою: так героиня прекрасного стихотворения «Как Марья спала» просыпается только затем, чтобы увидеть, как ее новорожденный младенец становится мальчиком, юношей, стариком. Горбунова работает с архетипическими образами мифологического сознания («Дерево — / это жужжащий пчелиный рой / что крутится как колесо со множеством спиц»), но подключает это сознание и ко вполне современному пейзажу: едва ли не лучшее стихотворение в книге «Вечер в храме огня» описывает магическое состояние наблюдения за взаимопроникновением фонарного света и дождя.
каждый фонарь —
маленький храм огня
темной лавой течет стекло
первого этажа
за которым сдается в аренду
первородная тьма
гнезда света-дождя
вокруг ламп у подъездов
в них танцуют-гудят
мелкодисперсные пчелы
Эпитет из лексикона физиков подводит к основанию этого волшебства — строгой и все же непостижимой математике, которая появляется в отчетливой реминисценции из финала «Рая» Данте:
множество радужных солнц
их бесконечное умноженье
геометрия солнц
о великое Солнце ОКТАХОР
۩۞۩★★★ ۩۞۩ОООКТАААХОООооор
и великое Солнце ИКОСАКСЕННОН
இஇ๑ ๑۩۩ இஇ ИИИКОООСАААКСЕЭЭЭННОООоооон
и великое Солнце АПЕЙРОГОН
╡╬ ╬ ┼ ┼ஐஐஐஐஐஐ╡╡╬╬┼ААААААППЕЕЭЭЭЭЭЭЙЙРРООООООГГООООООоооооонн
и в каждом из них распятый Господь Иисус
Имена великих Солнц — не заумные заклинания, а геометрические термины: первые два — геометрические тела в пространстве, чья размерность превышает привычные нам три измерения, последнее — многоугольник с бесконечным чертом сторон. Видение же распятого Христа сближает стихотворение с одним из любимых текстов Горбуновой — «Утром» Леонида Аронзона. В «Книге царства» прямо названы тени светлых и легких поэтов — Аронзона и Василия Бородина, и Горбунова открыто обращается к звучанию и мотивам поэзии Бородина, когда пишет:
три дня — три пня
и каждый день
стоит как в горле ком
кружится полиэтилен
из мусорки в одном
и из кустов торчащий член
таинственно знаком
в другом три мятых мужика
сдают металлолом
в мгновенье сжались все века
и в точку — всё кругом
Несмотря на «торчащий член» и «мятых мужиков», это стихотворение родственно детской считалочке. В своих стихах Горбунова явственнее, чем в прозе, соединяет «низкое» с нежным.
А вот вторая часть книги, в которой собраны стихи 2022-го, будто бы оправдывается за отсутствие грозных предсказаний: «под меди звон и звук кимвала / под гром пророчества и тайн / любовь не думала, не знала / жила, дышала просто так». Между тем «дуло небытия» все отчетливее виднеется через просвечивающий фон. Мир наливается войной, война изменяет его сущность: «кроны шумят как спецназ ГРУ: / выше нас только звезды / и птицы поют как РВСН: / после нас — тишина». Русская просодия начала XXI века, в формировании которой Горбунова принимала участие; футурология «нового эпоса» — все это пригождается для пророчеств, которые уже не кажутся фантастическими:
вспомни как разрывала сердце все та же боль
когда покидала ты навсегда
свой беспилотный летающий дом
с репликаторами еды
как в ту войну все бежали с Земли на Луну
и смотрели с Луны на тот взрыв
и у всех морей
лунных сидели и плакали сорок дней
Словом, Армагеддон близок, а «Божий Лик в кровавых бликах / С синяками кучевых», зримый на небе, — это уже не Бог геометрической бесконечности и любви, что движет Солнце и светила. Но тем не менее
...на всё ваше обесценивание
я отвечаю своей любовью обсценною.
Так и надо.