Корень зла является зоологическим
Лев Оборин — о трех поэтических новинках
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Григорий Стариковский. Птица разрыва. М.: Новое литературное обозрение, 2022
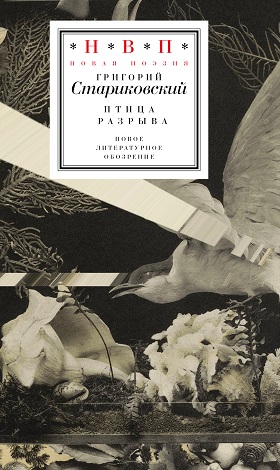 Григорий Стариковский — поэт и переводчик англоязычной и античной поэзии; сейчас он работает над новаторским переводом «Одиссеи». «Птица разрыва» — его третий поэтический сборник, и хочется назвать его концептуальным. Он разворачивается линейно (насколько возможно говорить о разрывах линейно); в нем создается образ говорящего, который работает с тем, что осталось после распада изначальной гармонии: «я умею сказать только „о“ сказать, / изобразить застывший неточно звук / и повесить его на гвоздь, на крюк, / этот бедный овечий летучий клок». Открывающий текст книги отчетливо парадоксален: он призывает к бедному языку — но выражается это языком достаточно прихотливым.
Григорий Стариковский — поэт и переводчик англоязычной и античной поэзии; сейчас он работает над новаторским переводом «Одиссеи». «Птица разрыва» — его третий поэтический сборник, и хочется назвать его концептуальным. Он разворачивается линейно (насколько возможно говорить о разрывах линейно); в нем создается образ говорящего, который работает с тем, что осталось после распада изначальной гармонии: «я умею сказать только „о“ сказать, / изобразить застывший неточно звук / и повесить его на гвоздь, на крюк, / этот бедный овечий летучий клок». Открывающий текст книги отчетливо парадоксален: он призывает к бедному языку — но выражается это языком достаточно прихотливым.
говорить на кровельном, пригородном, с накипью
ржавчины, одноярусном, снегоуборочном, —
тусклым наклоном лестницы,
легкостью алюминия.
речь — это бедная вещь шерстяная,
носи ее вместо варежек, шапочки
лыжной, обмотай свое горло
словом дальнего следования.
Классик лианозовской школы Ян Сатуновский писал: «Мне говорят: / Какая бедность словаря!» — и обосновывал эту минус-эстетику бедностью самой жизни. У Стариковского, напротив, призыв к бедности, обыденности языка растет из эстетики со знаком плюс. В предисловии к книге Ирина Машинская пишет: «в этих стихах, увидит читатель, все расползается по швам, раскалывается, покрывается трещинами, срезами: обрывки растительной жизни, щербатый асфальт, ветвь, яблоко, человек. <...> ...перед нами мир, основанный на главенстве зияний, провалов и пробелов»; она же сравнивает письмо Стариковского с японской категорией ваби-саби, то есть красотой неприметного, мимолетного, несовершенного, и вспоминает основания поэтики Григория Дашевского. Примечателен глобальный характер этих обобщений (античность — русская поэзия — японская эстетика): это вполне естественно, потому что руины универсальны. Глубоко индивидуальный опыт обращения к эфемеридам, попытки их заговорить («переезжая реку, говорю / воде, как я ее люблю», «спой мне, куколка-мэри, / о чем-нибудь прочном», «кто тебя выдумал, рваный брезент / мостовых») поэт тоже подает как универсальный.
серая, долгая кровля,
обшитые дранкой стены, море мое на отливе
держит камушек за щекой.
демосфен воды, научи говорить прямо,
не выкручивать полотенце, не собирать мидий
в разрисованное ведро.
Здесь же, в трехчастном стихотворении «Обочина», — программное обращение к самому себе: «люби асфальт и листьев прелый дрязг, / тарелочки, стаканчики, их пляс / изжеванный, проезжих жизней след, / оленя мертвого остекленевший взгляд». Этос поэзии Стариковского родственен found poetry, отыскивающей поэтическое в не-предназначенном-для-поэтического. Но Стариковский работает не с цитатой, а с собственной оптической настройкой: «я тоже в трещинах лежу и вижу / кривую шляпу мусорного бака». Видеть поэтическое в неприглядном — умение, которое иногда порождает выспренность, даже позу: мэтр такой позы — Бодлер, таковы, например, многие стихи Ходасевича. Но у Стариковского эта интонация проглядывает лишь изредка: «я сам листаю эту осень / с мучнистым солнцем вдалеке, / и мне не нужно встречных жизней / с собачками на поводке». Осень, основное время этой книги, — повод скорее для меланхолии, для того, чтобы отметить, как живое становится неживым, констатировать: «я бы здесь прожить не смог».
тихо, тихо, ветвь о воздух
трется, трется докрасна,
и накапливает опыт
прелости, — осенний шепот
обмирщения, слюна
ветра, прах его и запах.
туча, туча грозовая,
с придыханием летит,
лист упавший подгнивает;
едет поезд, замывая
собственный свой шум, течет
речь, как небо, неживая.
К бедному и осеннему репертуар «Птицы разрыва» не сводится — резкие и богатые деталями пейзажи Флориды оказываются не менее благодарной задачей для объектива, а среди претворяемого не-поэтического есть и собственно проза: одно из стихотворений — развернутое описание скверного романа. А вот диалог Стариковского с поэтами прошлого, от Горация до Фроста, — это не пересказ и, опять же, не цитирование, а попытка понять, письмо-как-чтение.
Демьян Кудрявцев. Русский как иностранный. М.: Культурная инициатива, 2022
 Новая книга Демьяна Кудрявцева — долгий гимн тесноте стихового ряда, установлению сверхплотных связей между словами: это версификационно изощренные и очень насыщенные, даже перенасыщенные тексты. Из авторов, работающих в схожей манере, вспоминаются Дмитрий Бак и Алексей Королев, но, пожалуй, самая очевидная фигура сравнения — покойный Алексей Цветков, на чью просодию во многих стихотворениях Кудрявцев ориентируется вполне явно, особенно в сочетании с амбивалентным мотивом смертности: «а что не доживу тогда ребята / пускай стучат пустым по полному стеклу / пускай они сидят до петухов девятых / и русский мой язык чтоб вынесли к столу // всё больше танцев нет прости меня родная / на обороте медленно прочти / вся жизнь моя как та переводная / картинка вот и выцвела почти», или: «спят покрыты коркой ледяною / видят там не нас пришедших вслед / а совсем иное неземное / то чего и после смерти нет».
Новая книга Демьяна Кудрявцева — долгий гимн тесноте стихового ряда, установлению сверхплотных связей между словами: это версификационно изощренные и очень насыщенные, даже перенасыщенные тексты. Из авторов, работающих в схожей манере, вспоминаются Дмитрий Бак и Алексей Королев, но, пожалуй, самая очевидная фигура сравнения — покойный Алексей Цветков, на чью просодию во многих стихотворениях Кудрявцев ориентируется вполне явно, особенно в сочетании с амбивалентным мотивом смертности: «а что не доживу тогда ребята / пускай стучат пустым по полному стеклу / пускай они сидят до петухов девятых / и русский мой язык чтоб вынесли к столу // всё больше танцев нет прости меня родная / на обороте медленно прочти / вся жизнь моя как та переводная / картинка вот и выцвела почти», или: «спят покрыты коркой ледяною / видят там не нас пришедших вслед / а совсем иное неземное / то чего и после смерти нет».
Вместе с тем Кудрявцев не замыкается в одной манере. Эмоциональная палитра книги «Русский как иностранный» — скепсис, сарказм, иногда жестокое отчаяние — как в балладе, переиначивающей английский детский стишок про Человека — Скрюченные ножки:
Скучен но не прочен быт
Скрючен даже если сыт
Ссыт что будет бит и скручен
Вынут из нечистых брючин
И внимательно изучен
Срам его который стыд.
Скрючен город и держава
Все победы одержала
Укороченным стволом
Тычат в спину те что круче
Партизаны душат дуче
И коричневые тучи
Проплывают за стеклом.
<...>
Все мы скрючены по пояс
Все мы вздрючены по полюс
Тихо стонет мегаполис
Но уверенно вперед
За створоженным туманом
За далеким на фига нам
Светит месяц талисманом
Поезд едет песня врет.
Из этой цитаты видно, что важнейший прием для Кудрявцева — постоянная паронимическая аттракция, держащее читателя в напряжении жонглирование близкими по звучанию словами с одновременным сопряжением их смыслов; не оставим без внимания и богатую звукопись: «спит за занавесью недоросль / зреет водоросль в пруду / почтальон приносит ведомость / я на промысел бреду» и так далее. В этой детальности, напоминающей гиф-картинку с бесконечно приближающимся и открывающим новые подробности пейзажем, скрывается и проблема — на которую указывает в предисловии к книге Дмитрий Кузьмин: «Что-то из этого, перечитав несколько раз, можно объяснить — зачем оно так и что это меняет; остальное, может быть, сделано по принципу „потому что могу“. <...> Вся формальная изощренность этих и подобных приемов возникает каждый раз как в первый раз и не дает никаких прогнозов по дальнейшему движению текста». Кузьмин в качестве ответа на вопрос «и что из этого следует?» предлагает обратиться к завершающему книгу разделу переводов — где техника Кудрявцева, соответствуя разнообразию поэтик переводимых авторов, в самом деле размыкается, Набоков в самом деле синтаксически (но не всегда рифменно) похож на Набокова, Саймон Армитидж звучит совсем по-другому, а хрестоматийные до затертости стихи Фроста Кудрявцев пытается приспособить под собственные звуковые механизмы. Но логичнее все же искать ответ не в переводах, а в оригинальных стихотворениях: в какой-то момент можно обнаружить, что ладные и вместе с тем горькие перечисления образуют портрет поколения. Этим приемом пользовался Тимур Кибиров в поэме «Сквозь прощальные слезы»; у Кудрявцева это получается лаконичнее и импрессионистичнее:
Только я рожденный дома
Без спринцовки и кондома
Мокрой плесени гортань
Трудной похоти истома
Full of liver kidney stomach
Кто не может по-простому
Тот пойди меня достань.
Плоть последних коммуналок
Сыть и несыть глоток алых
Пыль на гипсовых панелях
Ворс фланели без крахмала
Подтянувшись на гантелях
Вынул ножик из пенала
Нас таких осталось мало
Бойся нас рожденный днем
Мы в дугу тебя согнем.
Где-то там, в этом крошеве, привязанном больше ко времени, чем к пространству, — корни, опора, из которой растет самостояние «я» — при том, что к «я» как к предмету поэзии Кудрявцев подходит с осторожностью. «Я» отстраняется от неизбежного зла — но фиксирует его — ритмом заговора, словно пытаясь приладить себя обратно к истории:
награди меня бог глаукомы белком
напои забродившим твоим молоком
мы не в фокусе чтобы и не целиком
как ромашка с оторванным лепестком
не мелком восковым угольком войсковым
расковырянным в кровь языком
Предыдущий поэтический сборник Кудрявцева называется «Гражданская лирика». В новой книге гражданственность можно понять и как лавирование между причастностью/непричастностью, как постоянную работу некоего этического счетчика Гейгера. «опухшие колени и ладони, лежащие поверх чужих решений — нам это только кажется, поймите, нет разницы в градациях стыда, нет никаких пятидесяти оттенков, одним гнильем воняет покрывало прошедших лет, тоской военных сборов, кому из нас не повезло, что дóжил, пусть станет тем, кто это пережил». Собирание артефактов языка, свидетельствование о возможностях русской поэтической речи — это при таком раскладе параллельная задача. Но на самом деле она главная.
Итальянская поэзия между XX и XXI веком / Составитель Умберто Пьерсанти; перевод с итальянского Александры Петровой. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2022
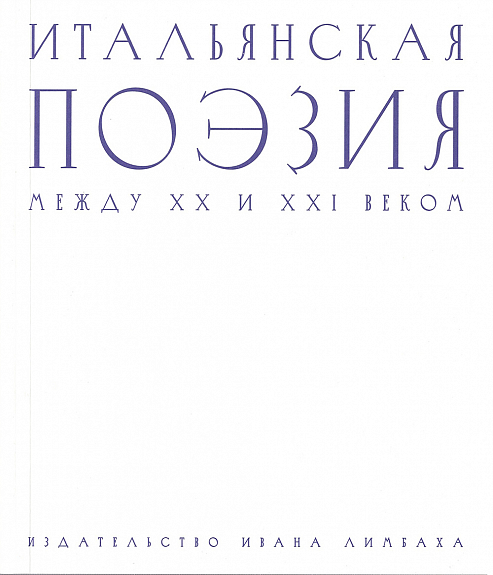 Эта антология, включающая стихи восьми авторов, составлена Умберто Пьерсанти — поэтом и директором фонда Леопарди. В основе ее — поколенческий подход: Пьерсанти выбрал авторов, родившихся в 1940–1950-е годы (сам он родился в 1941-м, и его подборка открывает антологию). Хотя в разговоре с переводчицей Александрой Петровой Пьерсанти дает краткий очерк итальянской поэзии всего XX века, его выбор достаточно консервативен: общей чертой выбранных поэтов он считает «приверженность реальности вещей и событий», а об авангардных поэтиках говорит в снисходительном тоне: «Авангардная линия в значительной степени утратила свой имидж и, конечно, уже не обладает той властью, включая редакционную, академическую и журналистскую, которую она имела в 1960-х и 1970-х годах. Экспериментальные поэты все еще чувствуют себя привилегированной группой, часто продолжая верить, что они единственные интерпретаторы настоящего и ближайшего будущего. <...> Однако если в 1960-е годы анафема со стороны авангарда имела определенное влияние, то сегодня, как мне кажется, она очень мало эффективна».
Эта антология, включающая стихи восьми авторов, составлена Умберто Пьерсанти — поэтом и директором фонда Леопарди. В основе ее — поколенческий подход: Пьерсанти выбрал авторов, родившихся в 1940–1950-е годы (сам он родился в 1941-м, и его подборка открывает антологию). Хотя в разговоре с переводчицей Александрой Петровой Пьерсанти дает краткий очерк итальянской поэзии всего XX века, его выбор достаточно консервативен: общей чертой выбранных поэтов он считает «приверженность реальности вещей и событий», а об авангардных поэтиках говорит в снисходительном тоне: «Авангардная линия в значительной степени утратила свой имидж и, конечно, уже не обладает той властью, включая редакционную, академическую и журналистскую, которую она имела в 1960-х и 1970-х годах. Экспериментальные поэты все еще чувствуют себя привилегированной группой, часто продолжая верить, что они единственные интерпретаторы настоящего и ближайшего будущего. <...> Однако если в 1960-е годы анафема со стороны авангарда имела определенное влияние, то сегодня, как мне кажется, она очень мало эффективна».
Несмотря на это, перед нами достаточно разнообразный по тематике и стилю спектр, показывающий нынешнюю работу старшего поэтического поколения Италии: практически все тексты здесь — из недавних сборников. Можно отметить общее для неомодернистских поэтик стремление работать с природными образами, извлекать из них новые валентности, связывающие природу с человеческим опытом; в одном из лучших стихотворений антологии Вивиан Ламарк говорит о деревьях как о любовниках, желая стать с ними одной экосистемой («Простите меня, Лиственница, что я назвала вас Сосной, / и Сосна, что я назвала вас / Пинией, у всех хвойных прошу извинить меня // и прощенья прошу у любимых»); здесь же она упоминает Орфея и Эвридику — и весь монолог, приобретая «загробные» коннотации, возможно, отсылает к седьмому кругу Ада у Данте, где обитают превращенные в деревья самоубийцы. Опыт обращения к природному нередко связан с эскапизмом: он может быть тревожным, как у Пьерсанти, или успокоительным, как у Фабио Пустерлы:
Ты не знаешь, но я часто просыпаюсь среди ночи,
подолгу лежу в темноте
и слышу тебя рядом спящей,
будто пес на берегу воды с тихим течением, откуда взлетают
тени и отражения, безмолвные бабочки.
Этой ночью ты говорила во сне,
почти стонала, рассказывая о стене
слишком высокой, чтобы спуститься вниз, к морю,
которое ты одна только и видела сияющим вдалеке.
В шутку я шепнул тебе, чтобы ты успокоилась,
что стена не так высока, что мы смогли бы ее и преодолеть.
Ты спросила,
ждал ли внизу нас песок
или черные скалы.
Песок, — ответил я, — песок. И в твоем сне,
возможно, мы спрыгнули.
Поэты антологии часто рассказывают мини-истории, порой пользуясь приемом «покадровой» передачи (читатель русскоязычной поэзии здесь может вспомнить Шамшада Абдуллаева). Показательнее всего в этом отношении стихи Мило де Анджелиса: «Слышишь собственные перемещающиеся шаги, / хочешь, чтоб все было медленнее, тебе страшно / и вот ты входишь в этот зал на улице Кадамосто, / здороваешься с оставшимися игроками в бильярд, / медленно делаешь точные замечания на пороге / или в углу у входа, ставишь мелкую ставку / улыбаешься, и зеленая ткань успокаивает тебя / как луг детства, тебя успокаивают борта / из дерева, внутри которых теперь находится твое собственное событие / и центростремительная сила подталкивает вселенную / в одну освещенную точку».
Переводы Александры Петровой звучат строго и чисто — пусть даже она иногда ослабляет просодические эффекты оригиналов (так, в переводе стихотворения Пустерлы «Роза, которую ты не хочешь принять» остаются лишь намеки на синтаксические и рифменные повторы). Самые сильные авторы в антологии, на мой взгляд, — Франко Буффони и Антонелла Анедда. Поэзия Буффони представлена несколькими антимилитаристскими текстами из сборника «Война»; стихотворение «Дезертир» как бы обобщает эту фигуру, казалось бы, взывающую к гуманистическому осмыслению, но редкую в поэзии (вероятно, лучший поэтический текст о дезертирах принадлежит Тадеушу Ружевичу). В стихотворении «В Патагонии морские львы» Буффони описывает насилие в животном мире — и, минуя аллегоризм, с помощью простой аналогии переносит это описание на мир человеческий:
Так бывает, что юный лев
Может спутать детеныша с самкой.
Через пару часов детеныш уже бездыханен.
<...>
Я думаю о младенце, избитом в Турине
До смерти своим двадцатитрехлетним отцом
Потому что тот плакал, не давал ему спать,
Подтверждая, что корень зла
Является зоологическим. Леденящее зло, что случается
С крысой определенного племени,
Когда она попадает на территорию
Другого племени крыс.
Формально разнообразная поэзия Анедды сочетает эскизность с тонким морализмом; в одном из текстов поэтесса признается в том, что «пишет неохотно», потому что ощущает свою ответственность за работу с языком, в котором «не существует невинности». Тем не менее за пределами утраченной невинности существует утешение — вновь соединяющее природное чудо и наблюдателей, которым повезло оказаться в нужное время в нужном месте:
Когда сдаешься жаре, уже с утра ожидая ночи,
что насосами моет улицы и асфальт дымится от пара,
когда жизнь не сплетение, а заикание отступлений
проступает из онемения среди папоротника и крапивы
образ воды, угадываемой средь полей, натянутой как простыня на прищепках
из веток и таз с зеленоледяными камнями. И тогда вдруг
перемирие это утешает и нас, скептиков, как когда однажды зимой
выглянув случайно с балкона, мы увидели
звездопад Таурид рассекающий черное небо.