Конец на расстоянии вытянутой руки
Заметки на полях книги Н. Кэтрин Хейлз «Как мы стали постлюдьми»
В далеком 1999 году специалистка по «электронной литературе» Н. Кэтрин Хейлз (р. 1943) опубликовала труд под названием «Как мы стали постлюдьми». Эта книга провела множество важных линий между зарождением кибернетики и «постчеловеческой» реальностью, в аналого-цифровом лимбе которой мы до сих пор живем. О том, почему русскоязычное издание этой работы в 2025 году даже актуальнее, чем в конце XX века, рассказывает Эдуард Лукоянов.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Н. Кэтрин Хейлз. Как мы стали постлюдьми. Виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике. М.: V−A−C Press, 2025. Перевод с английского Дмитрия Кралечкина. Содержание
Инфицированный общественный порядок прославляет угрюмый индивидуализм, превыше всего ставящий личное удовольствие. Разложившиеся массмедиа поощряют стремление к самоудовлетворению — к жизни по собственному моральному кодексу, ни перед кем не отчитываясь. Разве это свобода? Это убогое доминирование, недоразвитая совесть, и [написание] «автопортрета» своей инертности — ключ к освобождению, позволяющий избежать следующего трагического эпилога:
«На эдематозном полу лежал эпителиальный труп в вечернем эндокардиальном одеянии, с эритроцитным ножом во внутривенном сердце. Он был гемостатически иссохший, энцефалически сморщенный и эмбрионально отвратительный — с гепатотоксичным лицом…»
Маурицио Бьянки. Автопортрет М. Б.
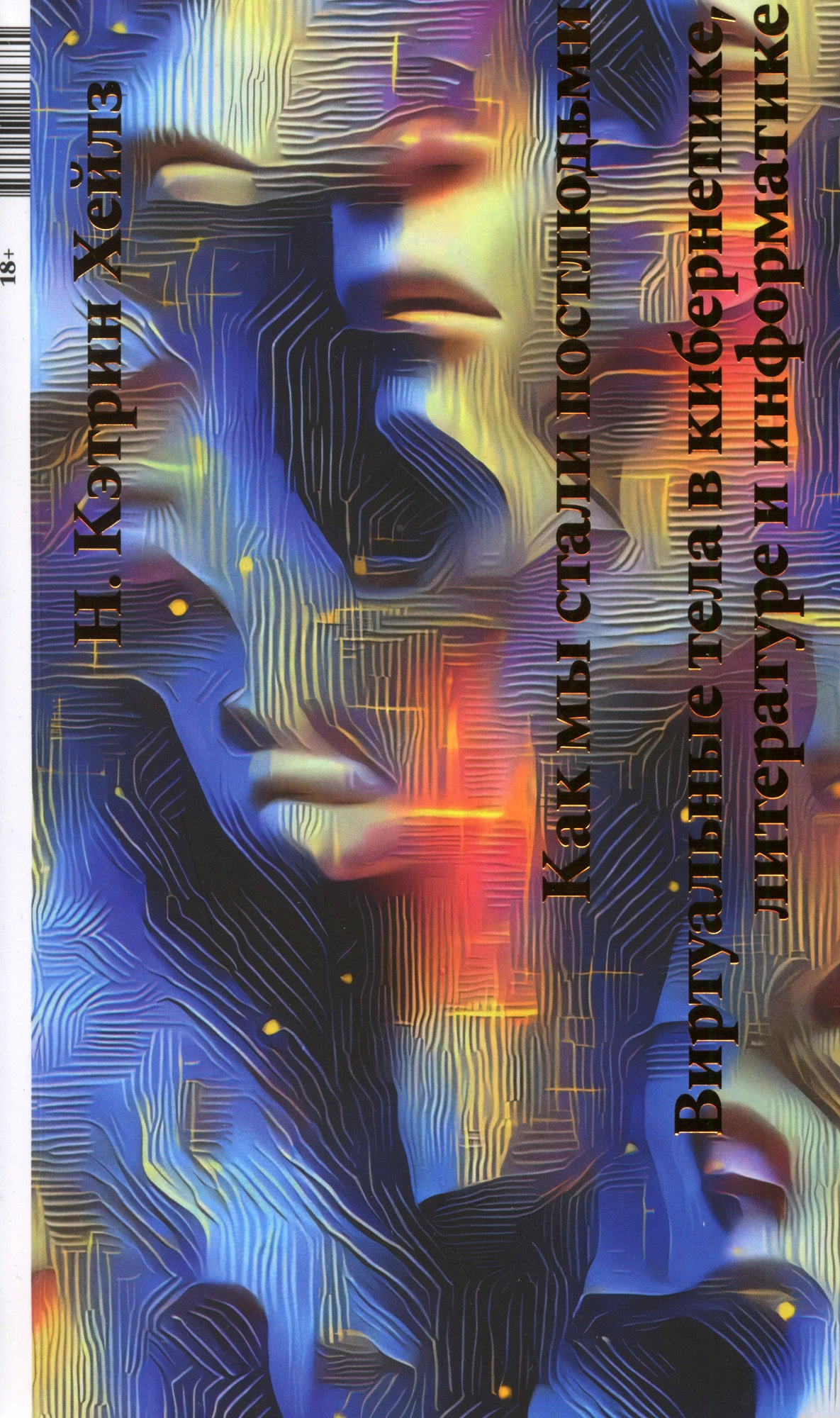
Этот опубликованный в 2008 году сверхкороткий текст христианского композитора Маурицио Бьянки если не комментирует, то хорошо иллюстрирует многие тревожные сюжеты, волновавшие в 1999-м Н. Кэтрин Хейлз, когда она заканчивала работу над книгой «Как мы стали постлюдьми». «Разве это свобода?» — этим вопросом итальянский духовный радикал завершает описание человека крайне индивидуального, но индивидуальность которого целиком и полностью сконструирована массовыми медиа. По сути, он демонстрирует читателю одну из возможных форм постчеловека, итог которого — слияние с неживой материей, которая в свою очередь обретает человеческие черты. Живое и неживое в постреальности поддается описанию только медицинским языком — пол становится эндематозным (распухшим, как утопленник), одеяние — эндокардиальным, нож — эритроцитным (то ли состоящим из красных кровяных телец, то ли специально созданным для их извлечения), сам же труп наделяется чертами существа, одновременно пораженного тяжелым недугом (энцефалитом) и готового к новому не-рождению, к смерти после смерти. Сами его органы перемешаны, их биологический смысл вывернут наизнанку: даже сердце вдруг оказывается «внутривенным». Об этом постчеловеке (или постмертвеце) Бьянки пишет так, будто он уже состоялся стараниями массового производства и обмена информацией. Спасение, впрочем, есть, однако программа его негативная: нужно не стать тем, к чему нас подталкивает информация, наделенная злой волей. Чтобы спастись, нужно [написать] автопортрет, вглядеться в поверхность своего тела, запечатлеть ее и через это запечатление проникнуть уже внутрь, туда, где хранится, словно на носителе информации, совесть — она же душа, моральная универсалия.
Как о свершившемся факте о постлюдях говорит и заглавие книги Хейлз, выбранное, по признанию автора, отчасти иронически — в порядке вызова читателю, «шокированному тем, что он не заметил перемен». И все же будем честны: мы бы вряд ли взяли в руки книгу с таким названием, если бы не репутация Дмитрия Кралечкина как переводчика, последовательно берущегося за самые интеллектуально насыщенные, напряженные, противоречивые — и тем интересные — вещи. И проблема вовсе не в самом заглавии, а в том, что за четверть века само понятие «постчеловек» было в значительной степени дискредитировано как честными безумцами, так и параэзотерическими коучами, рисующими миражи о потенциально бесконечной жизни оцифрованного сознания в экзоскелете, подключенном к глобальному нейроинтерфейсу. Тем и примечательна книга «Как мы стали постлюдьми», что из 1999 года она передает сообщения куда более актуальные, современные, чем иные визионерские опыты здесь и сейчас.
Основная сфера интересов Хейлз — литература и литературоведение, так что читателя «Как мы стали постлюдьми» ждет чрезвычайно проницательный анализ многих произведений, ставших классикой сперва киберпанковской, а затем и «общечеловеческой»: от «Голого завтрака» Уильяма Сьюарда Берроуза и «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Киндреда Дика до трилогии Уильяма Гибсона «Киберпространство» и «Лавины» Нила Стивенсона. Нас, впрочем, больше всего в литературоведческой «арке» книги заинтересовал рассказ об одном артефакте послевоенной эпохи — романе Бернарда Вольфа «Лимб» (1952), своего рода предшественнике нашего либерпанка. (Насколько нам известно, на русский он до сих пор не переведен, хотя с ним был знаком, например, Аркадий Стругацкий, оставивший краткий и не сказать что восторженный отзыв.)
Сюжет этого произведения слишком сложен и запутан, чтобы его пересказывать, поэтому ограничимся сеттингом. После Третьей мировой войны образовались два сверхгосударства: Соединенные Штаты Европы и Америки с одной стороны и Восточный Союз — с другой. Травму глобальной войны на уничтожение общество прорабатывает самым радикальным способом: возникает идеология «Иммоб», сторонники которой (молодые мужчины) ампутируют все свои конечности. Лозунг их движения: «Пацифизм — это пассивность». Идеология вскоре становится доминирующей и практически обязательной: в «лимбе» немодифицированных тел остаются только угнетенные «меньшинства» — женщины и чернокожие. Новое состояние тел значительной части населения меняет социальный порядок и соответствующие роли: женщины начинают доминировать над иммобилизованными мужчинами, что для наглядности демонстрируется через постельные сцены. Корпорации тем временем обращают внимание на плачевное состояние «иммобов», лишившихся радости жизни из самых благих побуждений. Они разрабатывают специальные протезы, которые дают ампутантам нечеловеческую силу, но применять их можно лишь в труде и спорте — дома они снимаются, чтобы женщины могли удовлетворить свои низменные желания, насилуя белых обездвиженных мужчин. Проникновение новой технологии раскалывает общество: пока одни с удовольствием пользуются возможностями кибернетического тела, радикалы агитируют за полную неподвижность. Лозунги они выкрикивают, разъезжая по улицам в чем-то вроде детских люлек. Ресурсы корпораций не безграничны — для непрерывных поставок кибернетических протезов им необходим колумбий, химический элемент, который в наши дни называют ниобий. Четвертая мировая, как нетрудно догадаться, не за горами.
«Лимб» Бернарда Вольфа, судя по всему, представляет собой не только примечательный слепок авторских неврозов, хотя психоаналитический материал он поставляет замечательный — даже в максимально сжатом пересказе. Дело в том, что среди людей, чьи труды оказали на него влияние в процессе написания романа, Вольф называет Норберта Винера — отца кибернетики. Для Хейлз чрезвычайно важно, что Винер, во-первых, сделал кибернетику наукой междисциплинарной, пользующейся аналогиями из, например, биологии и заражающей собственными аналогиями другие сферы знания (хотя, скажем, к физике он относился презрительно, называя ее «всего лишь непротиворечивым способом описания показаний физических инструментов»). Во-вторых, Винер, ясно видя междисциплинарное будущее кибернетики, осознавал подрывную силу научно-технической революции, к которой он приложил так много усилий. Хейлз указывает, что больше всего Винера беспокоил возможный пересмотр «либерального субъекта» — главного плода гуманизма в том виде этого самого гуманизма, который известен так называемой западной цивилизации. В наиболее радикальном выражении установки либерального субъекта можно передать словами политолога Кроуфорда Б. Макферсона: «Его собственнический характер обнаруживается в концепции индивида как владельца своей личности или способностей, который, обладая ими, ничем не обязан обществу… Сущность человека — это свобода от воли других, и свобода эта производна от владения». (Сравните с вынесенным в эпиграф этого текста риторическим вопросом Маурицио Бьянки.)
Вопреки своей кажущейся абстрактности, сформированный эпохой Просвещения, либеральный субъект наделен телом: очевидно, что он как минимум белый и он мужчина — скорее всего, привилегированный. Разумеется, тревогу либеральный субъект вызывает не расовой принадлежностью, не гендерной идентичностью и даже не социальным статусом. Тревогу вызывает то, что он монополизировал ценности гуманизма, парадоксальным образом вынеся за скобки человечества женщин, не-белых, представителей низших классов. Винер понимал, что сама кибернетическая наука подорвет материальность либерального субъекта, а вместе с ней — идеологическое содержание, невольным носителем которого он стал. После гуманизма неизбежно наступит постгуманизм — состояние, до поры до времени не поддающееся более адекватному описанию, но заранее пугающее приставкой «пост», которая сигнализирует о слишком кардинальных переменах. Впрочем, уже наступивших.
Здесь хочется привести полуслучайный пример из текущей реальности. «Маск подготовил армию роботов, и уже следующей весной можно ожидать их появления на полях сражений. В разработке — киборги и искусственно модифицированные животные. Завтра модифицируют людей», — паникует 29 октября 2025 года цифровой аватар антилиберального философа и политика Александра Гельевича Дугина (АГД), отказывающего признать, что он уже модифицирован в телеграм-канал AGDchan, у которого нет ни рук, ни ног, зато есть практически полная синхронизация с мыслями и чувствами человека по имени Александр Дугин. Информацию он передает по кибернетическому контуру: мозг АГД → руки АГД, набирающие текст, → протокол Telegram → конечный получатель (мы и миллионы других киборгов). И он же добавляет: «Конец на расстоянии вытянутой руки». Имея, само собой, в виду конец человека как [либерального гуманистического] проекта.
То, что может показаться элементарным нарушением внутренней политической логики, на деле является лишь продуктом кибернетического расщепления либерального субъекта, отрицающего собственную либеральную [гуманистическую] природу. Человек, очарованный информацией, перестает воспринимать ее как нечто отличное от собственного тела — так, мы редко задумываемся о том, что дышим легкими, и еще реже — что гоняем кровь сердцем. До тех пор, конечно, пока не случится инфаркт или эмфизема. И вот здесь нам интересно указать на то, в какие отношения вступали с объектом «Лимб» медиаторы в лице художников, иллюстрировавших этот роман. Автор первой обложки «Лимба» решил использовать в качестве выразительного образа трискелион, ради пущего сходства с нацистской свастикой развернутый по часовой стрелке. А вот обложка итальянского издания 1996 года: на ней изображено лицо белого мужчины, рот которого самым насильственным образом «стерли» провода ЭВМ. Этот яркий образ художник позаимствовал у обложки вышедшей годом ранее компьютерной игры I Have No Mouth, and I Must Scream — эталонного квеста по мотивам совсем другого литературного произведения: рассказа Харлана Эллисона «У меня нет рта, но я должен кричать».
«Господство машины предполагает общество, достигшее последних ступеней возрастающей энтропии, где вероятность незначительна и где статистические различия между индивидуумами равны нулю», — пишет…
Простите, на этом придется прервать рассказ о книге Н. Кэтрин Хейлз «Как мы стали постлюдьми. Виртуальные тела в кибернетике, литературе и информатике». За нами пришли, и у них есть автономные дроны различных моделей.