Злоупотребление правами человека
Шесть книжных новинок, заслуживающих внимания
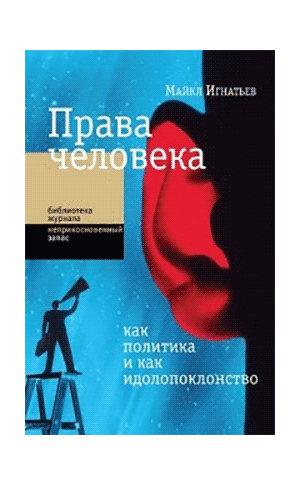 Майкл Игнатьев. Права человека как политика и как идолопоклонство. М.: Новое литературное обозрение, 2019. Перевод с английского А. Захарова
Майкл Игнатьев. Права человека как политика и как идолопоклонство. М.: Новое литературное обозрение, 2019. Перевод с английского А. Захарова
Бывший председатель Либеральной партии Канады, а ныне ректор Центрально-Европейского университета Майкл Игнатьев обнаружил, что даже Женевская конвенция не поставила точку в извечном споре о границах прав человека. Более того — с каждым годом наши представления об универсальном гуманизме становятся все более благодатной почвой для злоупотреблений.
ООН явно не справляется с поставленными перед ней задачами. Но Майкл Игнатьев не тратится на инвективы в адрес Организации Объединенных Наций, а просто предлагает внимательнее относиться к моральному праву держав на «гуманитарную интервенцию».
Текст Игнатьева занимает лишь половину книги. Другую половину составляют полемические комментарии, написанные Энтони Аппиа, Эми Гатманн, Томасом Лакером и другими небезызвестными представителями североамериканского интеллектуального истеблишмента.
«Армия освобождения Косово (АОК) творила беззакония в отношении сербских гражданских и военных лиц, намереваясь спровоцировать сербов на акты возмездия, которые в свою очередь могли бы заставить международное сообщество вмешаться в конфликт на албанской стороне. Успехи АОК в 1997–1999 годах служат типовой демонстрацией того, как нужно эксплуатировать западную озабоченность правами человека, подталкивая Запад к вмешательству, которое призвано увенчаться последующей победой повстанцев».
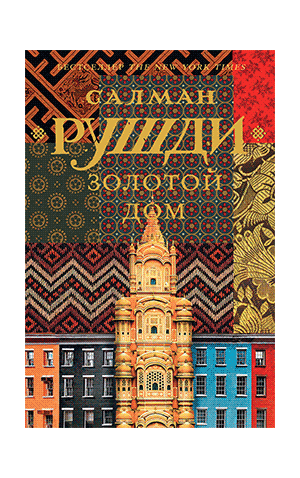 Салман Рушди. Золотой дом. М.: Corpus, 2019. Перевод с английского Л. Сумм
Салман Рушди. Золотой дом. М.: Corpus, 2019. Перевод с английского Л. Сумм
Новый роман Салмана Рушди понравится преданным поклонникам, а скептики отметят, что новый роман мало чем отличается от предыдущих, потому что так же, как и они, посвящен проблемам взаимоотношения Запада и Востока, традиции и модерна, противостоянию и синтезу мировых религий, ксенофобии и открытости. И конечно же, ностальгии по дому, откуда раз за разом приходится бежать. В новом романе есть ностальгия по совсем уж недавним временам — эпохе Барака Обамы. Главные герои переезжают из страны-которую-нельзя-называть в Нью-Йорк, впрочем, что это загадочная страна — Индия, автор довольно быстро проговаривается. Дальше начинается красиво и цветасто расписанная драма, столкновение культур, мировоззрений и поколений.
«И были книги, разумеется, книги, словно чума, заражавшая каждый уголок нашего неряшливого счастливого дома. Я стал писателем потому, разумеется, что жил со всеми этими предками в одном доме, и, может быть, выбрал кино, а не романы или биографии, потому что понимал, сколь безнадежно состязаться с этим старичьем».
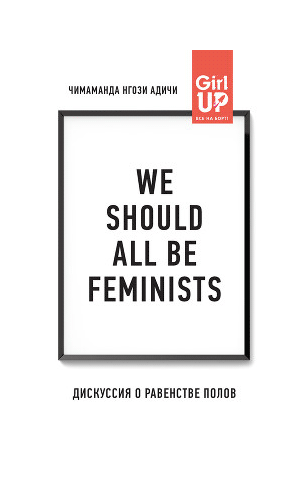 Чимаманда Нгози Адичи. We should all be feminists. М.: Эксмо, 2019. Перевод с английского А. Долинской
Чимаманда Нгози Адичи. We should all be feminists. М.: Эксмо, 2019. Перевод с английского А. Долинской
Чимаманда Нгози Адичи — настоящая звезда африканской литературы, не нуждающаяся в особом представлении. Ее романы «Пурпурный гибискус» и «Половина желтого солнца» переведены на десятки языков, а сама писательница получила множество наград, включая стипендию Мак-Артура и Дейтонскую литературную премию мира.
«We should all be feminists» — это речь, которую Адичи произнесла на панафриканском форуме в 2012 году. Свое выступление она посвятила детским травмам, связанным с гендерным неравенством, общим мыслям о феминизме и призыву всем вместе выступить против социального и физического насилия над женщинами.
Слова Адичи подчас могут показаться трюизмами, но сам факт издания ее речи отдельной книгой многое говорит о том, как на самом деле до сих пор важно вновь и вновь проговаривать вроде бы самоочевидные вещи.
«Я знаю нигерийскую женщину, которая решила продать свой дом, чтобы не испугать мужчину, который хотел жениться на ней.
Я знаю незамужнюю нигерийскую женщину, которая надевает обручальное кольцо, когда идет на конференцию, потому что она хочет, чтобы ее коллеги — по ее словам — „уважали ее”.
Грустно, что обручальное кольцо в самом деле автоматически делает ее заслуживающей уважения, в то время как отсутствие обручального кольца делает ее легко уязвимой».
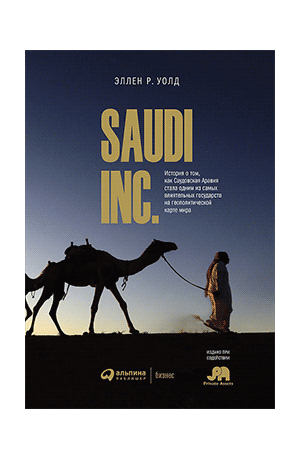 Эллен Р. Уолд. Saudi Inc. История о том, как Саудовская Аравия стала одним из самых влиятельных государств на геополитической карте мира. М.: Альпина Паблишер, 2019. Перевод с английского П. Миронова
Эллен Р. Уолд. Saudi Inc. История о том, как Саудовская Аравия стала одним из самых влиятельных государств на геополитической карте мира. М.: Альпина Паблишер, 2019. Перевод с английского П. Миронова
«Альпина» оперативно перевела прошлогодний экономический бестселлер доктора Эллен Р. Уолд, посвященный истории молодого государства, за свою короткую историю ставшего не только ведущей силой в регионе, но и важным игроком на мировой арене, с мнением которого нельзя не считаться. Успех книге обеспечило то, что автор необычайно бойко рассказывает о множестве факторов, повлиявших на превращение Саудовской Аравии в страну-корпорацию, в которой удивительным образом уживаются высочайший уровень благосостояния и жесткий теократический режим.
Уолд можно упрекнуть в том, что она уж слишком деликатно обходит стороной проблему с соблюдением прав человека в Саудовской Аравии и возможной причастности правящей династии к финансированию международного терроризма. Тем не менее надо отдать должное: ей удалось одновременно увлекательно и глубоко рассказать про объект своего искреннего интереса, плавно переходящего в обожание. Пусть и оставив за скобками многие вопросы, не имеющие простых ответов.
«Король скептически относился к возможности найти нефть в стране. Деньги, которые нефтяная компания платила ему после подписания концессионного соглашения, помогали удовлетворить самые насущные финансовые потребности. Однако когда компания все же нашла нефть, небольшие группы геологов, изучавшие ископаемые в пустыне и бурившие скважины в песках на восточном берегу, стали невероятно важными людьми для королевства. Нефть, которую они выкачивали из земли, превращалась в дороги, больницы, электричество, водопроводы, образование и возможности профессионального развития. Американцы из Armaco были, как часто говорил король Абдель-Азиз, „его партнерами по развитию”.
Возможно, что сам король Абдель-Азиз предпочитал пасторальный стиль ранних дней своего царствования. Он часто высмеивал то, как материальные блага меняют некоторых членов его семьи, и с трудом уживался со скоростью, с которой менялись обычаи его подданных. Он старался противостоять негативным эффектам слишком быстрой модернизации. Люди, беседовавшие с королем-основателем в его поздние годы, часто говорили, что эти перемены приводили его в ярость».
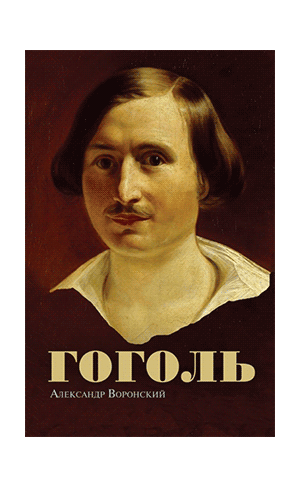 Александр Воронский. Гоголь. М.: Молодая гвардия, 2019
Александр Воронский. Гоголь. М.: Молодая гвардия, 2019
У этой книги сложная судьба: написанная в начале 1930-х, она увидела свет только в наши дни — ее автор, Александр Воронский, большевик, писатель и литературный критик, был репрессирован, и уже отправленную в типографию книгу запретили печатать. Чудом сохранилось несколько сигнальных экземпляров, но даже после реабилитации автора в СССР ее так и не выпустили. Конечно, сегодня эта яркая и неординарная работа, несмотря на все свои достоинства, уже не найдет такой широкой аудитории, как могла бы, хотя написана она в расчете на массового читателя и в то же время вполне на уровне научных знаний того времени. Писательский талант Воронского до сих пор не оценен по достоинству, и, кроме «Гоголя», следовало бы опубликовать заново многие другие его сочинения — например, вскоре появится переиздание его замечательной мемуарной книги «За живой и мертвой водой», и на нее тоже непременно стоит обратить внимание.
«А. О. Смирнова в „Автобиографии” рассказывает со слов Гоголя, как однажды он остался один среди полной тишины. „Стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность”. Тишину эту нарушила кошка. Мяукая, она осторожно кралась к Гоголю. Ее когти постукивали о половицы, ее глаза искрились злым зеленым светом. Ребенок сначала прятался от кошки, потом схватил ее, бросил в пруд и шестом стал ее топить, а когда кошка утонула, ему показалось, что он утопил человека, он горько плакал, признался в проступке отцу. Василий Афанасьевич высек сына. Только тогда Гоголь успокоился».
 Леонид Васильев. Средневековый Восток. М.: Ломоносовъ, 2019
Леонид Васильев. Средневековый Восток. М.: Ломоносовъ, 2019
Европейское и восточное средневековье — не одно и то же: по мнению востоковеда Леонида Васильева, у разных регионов разная хронология, и Средние века на Востоке он предлагает датировать с I века н. э. по середину XIX века, когда там начались глубинные изменения под давлением колониального капиталистического мирового рынка. Идея книжки, вышедшей в издательстве «Ломоносовъ», довольно занятная: это попытка кратко описать послеархаический и досовременный Восток как целое, но с учетом специфики различных азиатских народов. В этой работе нашлось место доисламскому Ближнему Востоку и сасанидскому Ирану, Арабскому халифату и Османской империи, Индии, Китаю, Японии, Корее и др. Отличное введение в тему для начинающих.
«Начало походам тюрок-мусульман на Индию положил газневидский эмир Махмуд, который в первой четверти XI века чуть ли не ежегодно совершал зимние набеги и с награбленным добром из сокровищниц князей и храмов возвращался к себе в Газни. Затем у газневидских эмиров появились иные заботы, так как в сопредельные с ними области вторглись сельджуки. Но в 70-х годах XII века, когда власть в Газни перешла к Гуридам, набеги возобновились. В 1186 году Мухаммед Гури овладел Пенджабом и затем, разгромив раджпутских князей, приступил к захвату долины Джамны и Ганга. После смерти Мухаммеда Гури в 1206 году его военачальник из рабов-гулямов Кутб ад-дин Айбек объявил себя султаном индийских владений Гуридов, сделав своей столицей город Дели. Так было положено начало Делийскому султанату».