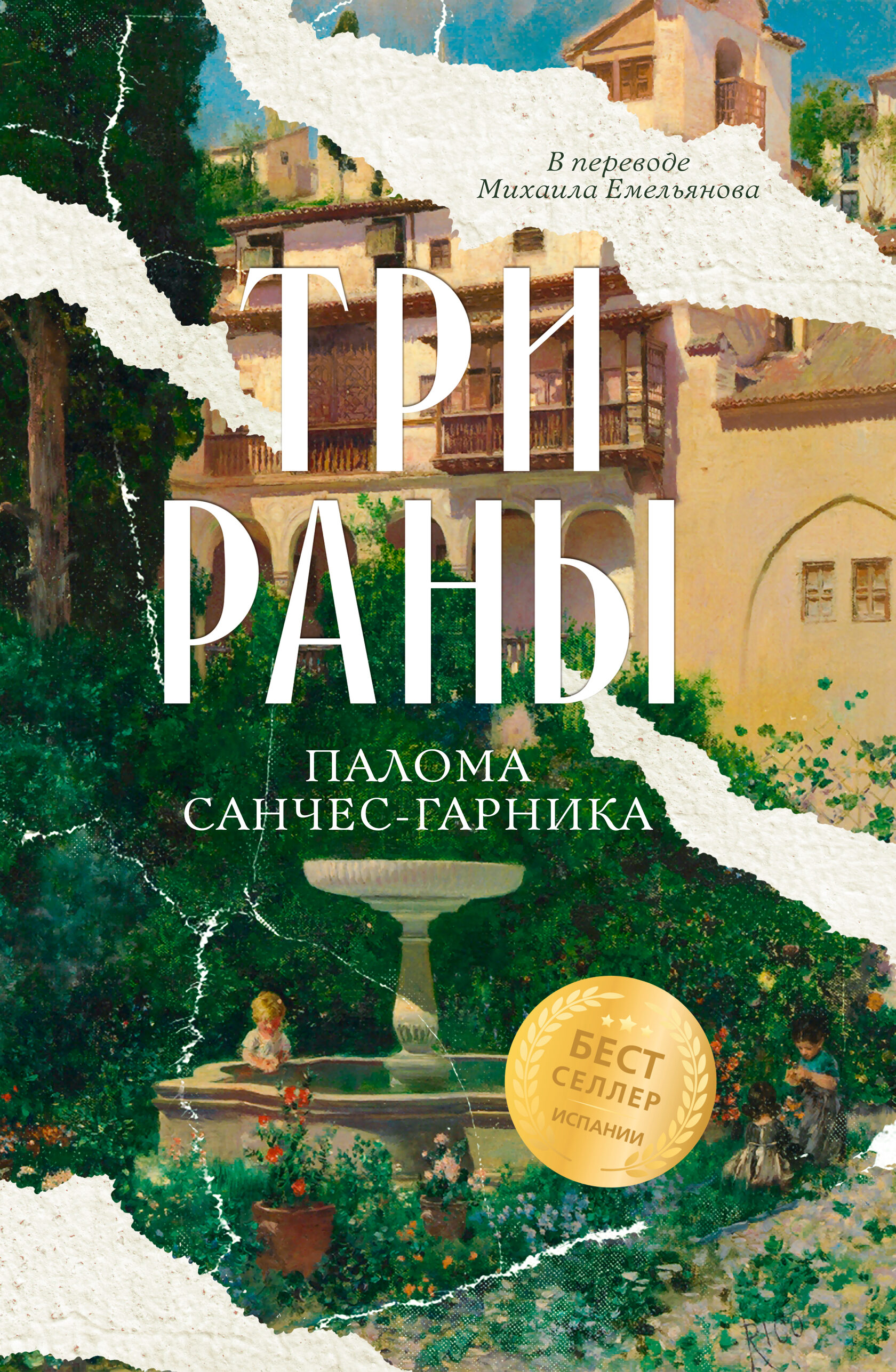Клио, ведьма истории
О романе Паломы Санчес-Гарники «Три раны»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Палома Санчес-Гарника. Три раны. М.: Дом историй, 2025. Перевод с испанского Михаила Емельянова
|
В издательстве «Дом историй» вышел в свет роман испанской писательницы Паломы Санчес-Гарники «Три раны» в переводе Михаила Емельянова. Эта книга посвящена Гражданской войне в Испании — теме, традиционной для советской литературы, но не такой частой в современной России. Но прежде всего «Три раны» — необычный исторический роман, что в очередной раз напоминает нам о крайне востребованном положении этого жанра на книжном рынке.
Для начала эта книга втягивает читателя в необычную литературную игру: с одной стороны, перед нами роман, с другой — рассказ о его написании. Причем эту закулисную часть текста Санчес-Гарника создает от лица вымышленного писателя Эрнесто Сантамарии — своего альтер эго. Вслед за тем она придумывает для этого автора историю о том, как он узнал о событиях, происходивших в Испании в тридцатые годы, — благодаря случайно купленной на барахолке фотографии. Чтобы лучше понять, что на ней изображено, Эрнесто едет в город Мостолес в поисках людей, которые могли бы что-то рассказать ему об этом снимке. Таким образом, тут воедино сплетаются несколько подчеркнуто вымышленных слоев текста, с разных сторон приближающихся к реальной истории. Эти фикшн-приемы, кажется, нужны для того, чтобы снять дистанцию, отделяющую нас от исторических событий.
«Вспышка — и фотография готова. Они навсегда запечатлены в черном и белом на тонком листе плотной бумаги. Я задался вопросом, о чем думали эти люди в то роковое для испанской истории 19 июля. Судя по их спокойствию, они и не подозревали, что в тот самый момент началась жестокая война, которая навечно оставит свой отпечаток на каждом испанце».
Рассказчика неслучайно волнует образ фотографии: героев его текста фотографирует старая камера, один из символов архаики и — к сожалению — технической отсталости Испании в тридцатые годы XX века, когда по всей Европе уже были распространены «лейки» и другие более современные фотоаппараты. Почему же именно про подобные фотографии говорится: «Такие портреты — своего рода исторический документ»? Перед нами метонимия, перенос свойства с частного явления на нечто общее: образы людей проступают на фотографической бумаге подобно тому, как на их судьбах отпечатывается война. Минус на минус, один фикшн, помноженный на другой, дает плюс — повествователь может говорить о своих героях как о реально существовавших людях.
Впрочем, война разрушает и архивы, то есть уничтожает материальные носители памяти: архивариус говорит писателю, что
«…у них нет сведений об отдельных лицах (даже кадастровых записей), потому что в октябре 1936 года, перед тем как националисты вошли в Мостолес, республиканцы уничтожили все документы… Войны не только разрушают жизни и семьи, но и уничтожают прошлое, оставляя пробелы, которые невозможно заполнить. И Мостолес, к сожалению, не стал исключением из этого страшного правила».
Но так как в маленьких городках история всегда передается из уст в уста, даже спустя много лет после войны можно попытаться найти живых свидетелей тех далеких событий. Этим в романе и занимается рассказчик. Опять начинается литературная игра: вымышленный писатель собирается сочинить историю о вымышленных людях, но для этого ему необходимы как бы реальные свидетели, которые могут ему что-то поведать:
«А когда все уже поверят, что беда прошла, снова вернутся горечь, смерти и нищета, прикрытые непрочным искусственным миром. Война накрыла их своей мрачной тенью, заставила тех, кому посчастливится выжить, растратить лучшие годы своей жизни в братоубийственном кровопролитии, которое оставит след на всем их существовании. Обрекла на ненависть, раскаяние и забвение, навязанное страхом и ужасом, сочащимися из глубоких и незаживающих ран».
Конечно, не случайно, что современный писатель, желая сказать что-то важное о своем времени, берется за исторический роман. Композиция «Трех ран» сложна: сначала мы читаем предисловие, написанное от лица реального автора, Санчес-Гарники, которая много внимания уделяет стихам испанского поэта Мигеля Эрнандеса. Затем следует глава вполне фикционального текста, но мы еще не понимаем, кто его «сочинил», — вымышленный «автор» с его вымышленным «расследованием» появится лишь в следующей главе. И это повод вновь напомнить нам, что современный исторический роман почти всегда строится как расследование и имеет много общего с детективом. Для Санчес-Гарники проводником в этом мире, полном тайн и загадок, служит великая испанская литература «Поколения 27 года», и прежде всего творчество Мигеля Эрнандеса.
Позволю привести себе пространную цитату, чтобы показать, как в «Трех ранах» работает историческая память:
«Это было письмо от 15 марта 1939 года, подписанное Мигелем Эрнандесом. С дрожью в руках я читал его слова, обращенные к некоему Артуро (наверное, тому же, кому были посвящены дарственные надписи)… Я извлек синюю папку, стянутую по углам двумя красными резинками. Внутри обнаружилась написанная сбивчивым почерком рукопись со множеством правок. Я чуть было не упал в обморок, когда понял, что, возможно, держу в руках рукописи самого Мигеля Эрнандеса… Я проглядел все листы рукописи и, дойдя до последнего, впился в него глазами. Мои руки дрожали, меня захлестнули эмоции, я не мог поверить в то, что я держал в своих пальцах. На последней странице тем же почерком, которым поэт писал дарственные надписи тому самому Артуро, было записано стихотворение Мигеля Эрнандеса… У меня в руках оказались черновики стихотворения „Три раны“, рукопись с вычеркнутыми и исправленными словами. Я почувствовал себя в совершенно другой эпохе, мне почудилось, что поэт сидит напротив меня. Бумага в моих руках казалась мне его кожей, я словно держал его за руку, а он улыбался, приятно удивленный тем, какое впечатление произвели на меня его строки».
Получается эпистемологический парадокс. Сначала вымышленный писатель начинает сочинять великий исторический роман о Гражданской войне — и только вслед за тем встречает «документальные» свидетельства, которые, так сказать, подтверждают его художественные догадки. Складывается впечатление, что, хотя сам он руководствуется историческим воображением о великих и трагических событиях, ему все равно требуются доказательства в виде «реальных» исторических источников. И последнее: по сюжету, придуманному Санчес-Гарникой, сам Эрнесто недавно пережил личную трагедию — смерть жены, — но только благодаря этому событию открыл в себе способность писать о Гражданской войне. Вновь мы имеем дело с метонимией: биография отдельного человека воспроизводит в индивидуальном масштабе некоторую часть большой истории. Таким образом, движение фикционального и нефикционального повествований оказывается встречным и позволяет снять дистанцию между историческими событиями и рассказом о них.
Понятно, что война разрушает не только горизонтальные связи в обществе, но и целые семьи. Мысль рассказчика в общем-то не нова: семейная память о войне оказывается историческим воображаемым, имеющим весьма далекое отношение к тому, «как все было на самом деле», — а главное, она тоже полна лакун. Пожилые люди в романе лучше помнят давнее прошлое не только потому, что оно почему-либо представляет для них бо́льшую ценность, чем недавние происшествия, но и в силу того, что великие исторические события, пережитые в молодости, оставляют в памяти более глубокий отпечаток. Художественная правда «реальнее» исторической.
Не случайна и одна из ключевых метафор Санчес-Гарники: на месте большой деревни, каким был Мостолес в тридцатые годы, возник город, который хотя и помнит прошлое, но уже совсем иначе. Многие современные здания построены на месте разрушенных или поврежденных в годы Гражданской войны. Это придает дополнительное измерение уже отмеченной «слоистости» исторического повествования. В частности, Эрнесто то и дело пытается представить себе, как все здесь было во времена Гражданской войны, хочет пережить «возвышенный исторический опыт» — но перед его глазами нет даже руин, чтобы, всмотревшись в них, можно было реконструировать в воображении изначальный облик городка: «На руинах дома возвели многоэтажку».
Наиболее, пожалуй, удивительное, что на страницах «Трех ран» находится место для ни много ни мало персонификации самой истории — это почти что муза Клио собственной персоной. Речь идет о маленькой девочке, которая как будто обладает даром ясновидения — или же мощным вдохновением для написания историй — и словно перемещается в двух хронологических пластах романа, между Гражданской войной и современностью. По мере развития сюжета оказывается, что она принадлежит к роду добрых галисийских ведьм — вейг. Сложно не усмотреть в этом грустную иронию: лучше всего историю со всеми ее коллизиями и катаклизмами понимают не опытные, много пережившие взрослые, а девочка-колдунья.
«Три раны» в очередной раз доказывают, что сегодня исторический роман является одним из главных способов постижения прошлого, даже если основан на детективной и почти мистической интриге. Как известно, интрига присутствует в любой историографической статье — просто в силу того, что почти каждый ученый-историк видит перед собой загадку, которую необходимо разгадать, даже если при этом порой чувствует искушение поступить не вполне добросовестно и подверстать свои размышления под уже готовый ответ на вопрос. Интрига как прием объединяет сегодня как исторического романиста, так и профессионального историка.