Киборги против Егора Летова
Артем Роганов — о книге Шамиля Идиатуллина «Все как у людей»
Шамиль Идиатуллин. Все как у людей. М: Редакция Елены Шубиной, 2022. Содержание
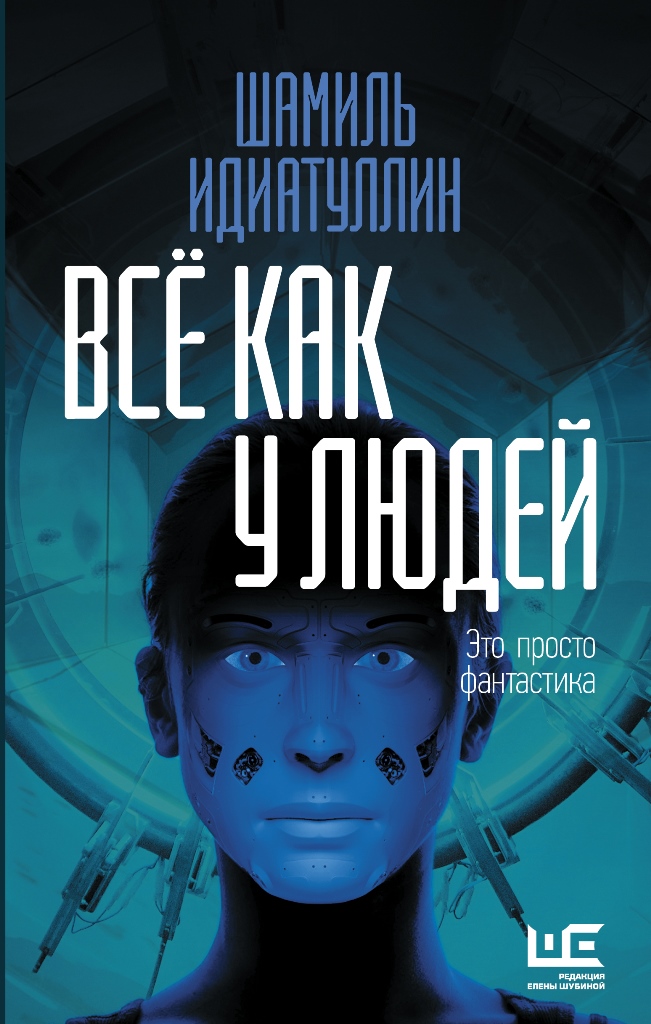 Как ни странно, у Шамиля Идиатуллина, человека довольно публичного, есть как у автора нечто общее с Виктором Пелевиным. Отчасти сходство касается плодовитости писателей — в последнее время оба публикуют не меньше одной книги в год. В 2019-м у Идиатуллина вышел социальный роман «Бывшая Ленина», а в 2020-м появилась фэнтези-притча «Последнее время». В этом году — сериал для Букмейта «Возвращение „Пионера”», а также сборник «Все как у людей». Сборник, куда вошли повести и рассказы разных лет, казалось бы, представляет собой проходной микс. К тому же в предисловии к нему говорится, что большинство этих текстов были написаны «на слабо». Но не секрет, что порой вещи, явно не претендующие на статус opus magnum, способны раскрыть автора и его прозу в новом и любопытном свете. «Все как у людей» — тот самый случай, хотя речь и не идет о безусловном шедевре.
Как ни странно, у Шамиля Идиатуллина, человека довольно публичного, есть как у автора нечто общее с Виктором Пелевиным. Отчасти сходство касается плодовитости писателей — в последнее время оба публикуют не меньше одной книги в год. В 2019-м у Идиатуллина вышел социальный роман «Бывшая Ленина», а в 2020-м появилась фэнтези-притча «Последнее время». В этом году — сериал для Букмейта «Возвращение „Пионера”», а также сборник «Все как у людей». Сборник, куда вошли повести и рассказы разных лет, казалось бы, представляет собой проходной микс. К тому же в предисловии к нему говорится, что большинство этих текстов были написаны «на слабо». Но не секрет, что порой вещи, явно не претендующие на статус opus magnum, способны раскрыть автора и его прозу в новом и любопытном свете. «Все как у людей» — тот самый случай, хотя речь и не идет о безусловном шедевре.
Формально книга относится к жанру фантастики, а синекожий андроид на обложке намекает, что читателя ждут трансгуманизм, искусственный интеллект и прочие популярные атрибуты современного Sci-Fi. На деле все это в полной мере встречается лишь в первой повести «Светлая память», где девушка-киборг выходит из-под контроля своих создателей. Интригующий поначалу, но предсказуемый уже с середины сюжет «Светлой памяти» очень сильно перегружен деталями. Даже эпизодический охранник в супермаркете, натравив на героиню полицейских, не просто держится в стороне, а стоит, перехватив «левой рукой локоть правой». В результате от обилия мелких штрихов возникает ощущение безвоздушного пространства, как после пребывания в комнате, переполненной добротно сделанной, но зачастую совершенно ненужной мебелью. Зато в других историях такой детализации нет, да и фантастикой «Все как у людей» можно назвать лишь в самом широком смысле слова. Жанры варьируются от абсурдистского гротеска в заключительном «Коллекторе» до мистической драмы в «Я наберу». Повесть «Эра Водолея» вовсе заставляет вспомнить «Тень над Иннсмутом» Лавкрафта. Сквозь правдоподобный мир чиновников с его рациональными интригами неспешно проступает древнее, в буквальном смысле хтоническое начало. В противовес «Светлой памяти» «Эра Водолея» выглядит сильнейшим текстом в сборнике: суть происходящего неочевидна вплоть до сюжетной кульминации, а фабула становится изящной метафорой круговой поруки и коррупции как заразительного социального явления.
В том числе из-за разнообразия тем и жанров сборник «Все как у людей» оказывается едва ли не мини-панорамой творчества Шамиля Идиатуллина в целом, камерной моделью, которая дает представление о важнейших для писателя мотивах. Тема расчеловечивания из той же «Эры Водолея» перекликается с «Убыром», экосырьевая мистерия «Обмен веществ» — с «Бывшей Ленина». Чего тут нет совсем, так это Советского Союза. Но ведь и роман «Город Брежнев» был посвящен не столько конкретному прошлому конкретной страны, сколько человеку в переходный период, феномену смены эпох, о котором отчасти написано и фэнтезийное «Последнее время». В сборнике «Все как у людей» рассказ с похожей проблематикой — «Дедовский способ», маленькая лиричная новелла о постаревшем миллениале. Живущий отшельником в далеком будущем, главный герой пытается понять изменившийся мир и своих потомков, с головой погруженных в виртуальное пространство.
Роль книги как резюме пройденного творческого пути подчеркивают подзаголовки и короткие послесловия. Они раскрывают историю создания каждого текста: например, выясняется, что «Светлая память» выросла из сценарной заявки, а «Обмен веществ» сочинялся для конкурса. Фактически сборник превращается в единое повествование с выраженной автобиографической рамкой. Она добавляет элемент игры и подспудно рассказывает о литературном процессе в десятые и нулевые: интернет-форумы, публикации в журналах, тематические номера в глянце. Поэтому пассаж из предисловия «большинство текстов написаны на слабо» — не попытка оправдать малозначимые произведения и не кокетство, а скорее часть отдельного метанарратива. Комментарии призваны показать мастерскую писателя, в них подспудно звучит остроумное напоминание, что занятие литературой далеко не всегда подразумевает творческий надрыв и пафос. Иногда оно — рутинный труд в рамках какого-то проекта, иногда — способ развлечься. С этой точки зрения название сборника не просто отсылает к известной песне Егора Летова и обыгрывает тему киборгов, но и словно говорит: «У писателей, вообще-то, все как у людей».
Другое дело, что такой подход по-брехтовски отчуждает повествование. Например, подзаголовок к «Кареглазому Громовику» — «Ничего страшнее я не написал» — сразу провоцирует ждать чего-то страшного и тщательно анализировать сюжет, а не погружаться в него эмоционально. Ирония, свойственная прозе Шамиля Идиатуллина, становится здесь особенно яркой. И похоже, что «Все как у людей» на самом деле не мистика, не фантастика, и не реалистическое повествование. «Микрохорроры» в конце книги, где встречаются поп-культурные мемы от «Красной свадьбы» до Стаса Михайлова, больше напоминают черные анекдоты. В «Светлой памяти» рефреном служит мем-поговорка о «часиках», которые «тикают», в «Эре Водолея» нетрудно разглядеть отсылку к полушуточной теории заговора с участием рептилоидов. Обыгрывание современного, в первую очередь сетевого, фольклора приближает «Все как у людей» к постмодернизму, и особенно яркая ассоциация возникает тут именно с романами Виктора Пелевина. Есть вполне пелевинские мотивы, например политические интриги, за которыми стоит заговор сверхъестественных сил. Автобиографическая рамка тоже выглядит в духе Порфирия из «iPhuck 10». Хотя Порфирий у Пелевина номинально остается маской, он очевидно рефлексирует по поводу творческого пути автора. Главная же пелевинская черта сборника заключается в постмодернистской языковой игре, которая проскальзывает у Идиатуллина почти в каждом рассказе. Даже в трагичном «Я наберу» стиль не обходится без ироничной интертекстуальности.
Босс любоваться не стал. Бегло просмотрел, мрачно покосился на календарь и на часы, давая понять, что совсем ты, коза, руки и кадык мне цейтнотом выкрутила, иначе утаптывала бы рабочую поверхность веселым Сизифом до совершенной гладости и прозрачности. Буркнул, ткнув в произвольно выбранный слайд: «Вот здесь по-человечески сделайте» — и нырнул в годовой отчет, давая понять, что аудиенция окончена, а свобода с чистой совестью — вот они, туточки, за окошком.
Поскольку в голосе повествователя регулярно чувствуются юмористические нотки, атмосфера получается дружелюбно-уютная, пусть содержание порой укладывается в канон хоррора. Возможно, отсюда и впечатление Алексея Сальникова: «...А все равно: перелистнул последнюю страницу — и, как-то вопреки всему написанному, светло на душе». Это, конечно, отнюдь не изъян в целом удачной книги (за исключением «Светлой памяти» и чрезмерно анекдотичных «микрохорроров»). Мало кто способен преподносить серьезные и жуткие темы в духе эпического театра — так, что они не пугают, даже веселят местами, но при этом осмысляются как реальные и насущные. Только зачем тогда нужны название и эпиграф из пронзительно тоскливой песни «Гражданской обороны»? Неужели ради шутки про киборгов и непрозрачного намека на путеводитель по писательской кухне?
По сути, атмосфера сборника противоположна атмосфере композиции Летова, цитируемой в заглавии. Ведь в последней нарочито радостный текст, где все так «здорово и вечно», подается в таком тягостном и надрывном стиле, что в итоге песня деконструирует обывательское понимание счастья как таковое и оказывается по-настоящему мрачна. При этом, однако, можно сказать, что и книга Шамиля Идиатуллина, и трек «Гражданской обороны» посвящены предопределенности человеческой судьбы, неизменности нашей природы. Отличие в ракурсе. Там, где у Летова рано или поздно «все слова истлеют» и наступит «не было и нету», у Идиатуллина человек остается собой в метафизическом смысле, даже если его тело трансформируется биологически. Киборг из «Светлой памяти» мечтает чуть ли не о семейном счастье. Чиновник, мутируя, не обретает кардинально другие цели. Дед из будущего все равно укладывается в узнаваемый образ — ворчит на внуков и при том искренне их любит. И сказочный спаситель из новеллы «Принцесса — это праздник» тоже может угодить в аврал на работе и страдать от жесткой конкуренции. Фантастическое у Шамиля Идиатуллина — человеческое, иногда слишком человеческое. Такая фантастика свидетельствует, что, какие бы катаклизмы с людьми ни происходили, существуют особенности души, которые никуда не денутся. Вечное в нас — это и злое, и доброе, и разумное, и сумасшедшее, но зато вечное. И если в песне Егора Летова невозможность бегства за рамки слишком человеческого осознается как жуткий тупик, то в сборнике Шамиля Идиатуллина она, наоборот, обнадеживает. У людей есть качества, под которые изменчивый мир, как обычно, прогнется, — намекает книга, будто бы призванная утешать тех, кто подвержен разного рода упадническим и алармистским настроениям.