Кетчуп вместо крови
Лев Оборин — о поэтических новинках января
Дмитрий Григорьев. Радиостанция седьмой шлюз. Шупашкар: Free Poetry, 2019
Расширенное — и очень изящно оформленное — переиздание сборника с тем же названием, выпущенного пять лет назад в том же чебоксарском издательстве Игоря Улангина. Дмитрий Григорьев — петербургский поэт и прозаик; для меня его имя — один из синонимов стилистической легкости, даже непосредственности. Эти качества Григорьев подчеркивает, неожиданно выходя на пуант — который и разрешает все стихотворение. У такой техники есть соответствия в теории музыки — и не случайно Григорьев чередует свободный стих с регулярным. В одной из его предыдущих книг, «Между играми», можно, например, прочитать: «Снег соскакивает с воротника, / словно большая кошка, / в луже на полу прихожей / её глаза блестят... // а твои пушистые тапки / похожи на котят». Ощущение, будто поэт запутался в собственной метафоре, ищет глазами ее благополучного разрешения — и находит; удачность находки подчеркивает рифма, ну а сентиментальность, «плюшевость» всей описанной ситуации показывает, что все это — не вполне всерьез. Таких стихов хватает и в «Радиостанции седьмой шлюз», Григорьев мастер подобных комбинаций:
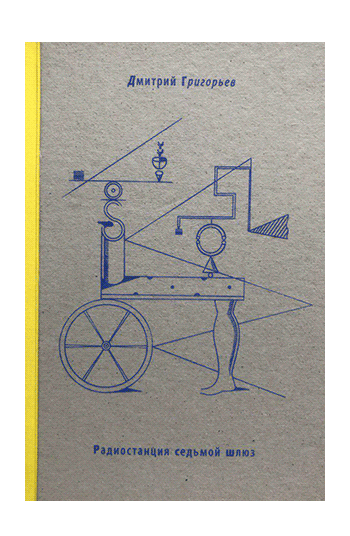 Небесный мусор
Небесный мусор
крутится вокруг земли:
пустые ступени ракет,
умершие спутники
и космические корабли,
небесный мусор
отмеряет наше время,
медленно сжимает круги,
чтобы однажды
сгореть в атмосфере
без следа...
где он уже вовсе не мусор
а падающая звезда.
По сути, перед нами развернутый афоризм, со всеми эстетическими достоинствами и издержками этого жанра. Среди издержек — необходимость соблюдать тонкий баланс, чтобы легкость не превратилась в легковесность: Григорьеву это почти всегда удается. Но в «Радиостанции» есть и вещи совсем другого рода — например, «Зима 1941», длинное стихотворение о Блокаде. Оно коренится в привычной для Григорьева стихии: личные воспоминания и переживания запускают череду ассоциаций («В доме моего детства никогда не выбрасывают старый хлеб. / В доме, где я никогда не был / моя бабушка размачивает землю, перемешанную с углём — / сладка бадаевская вода»). Но чем суше речь, тем глубже дыхание этого текста; от игры не остается почти ничего — ровно столько, чтобы сравнение выглядело не кунштюком, а важной деталью в ассоциативной цепи:
Профессор консерватории
бежит к зажигательной бомбе по жестяной крыше.
Шипение зажигалки не войдет в партитуру,
но останется фоном на старой пластинке.
Еще один текст долгого и глубокого дыхания — «В доме Айги». Григорьев обстоятельно перечисляет все предметы этого дома (и трудно не вспомнить тут «из какого сора») — и здесь вспоминаешь, что Айги вмещал в свои минималистичные стихи огромные пространства, а поводом для этого могли служить незначительные детали:
У другой стены —
диван, над которым липкая лента для мух на гвозде,
рядом ещё несколько пустых гвоздей
(некогда реализованных возможностей,
а теперь снова ожидающих своего случая).
В сборнике четыре раздела, в последнем появляются постоянные персонажи — мудрая Алиса Яндекса и Уильям Берроуз (тут можно вспомнить, что прозу Григорьева сравнивали с текстами битников). Но интереснее прочих раздел «Кино о любви». О кинематографизме современной поэзии много сказано: два этих искусства, древнее и (относительно) молодое, постоянно обнаруживают сходства. В «Кино о любви» Григорьев называет штампы и расхожие сюжеты, знаменитых режиссеров, актеров и киногероев, дает синопсисы реальных («Броненосец „Потемкин”») и вымышленных фильмов — и все с той же афористичной легкостью противопоставляет условность кино его сближающей силе:
В цветном кино кетчуп вместо крови,
в чёрно-белом течет шоколад,
а если кино о любви,
то ни кетчупа ни шоколада не надо:
только два билета в конец зала
и чтобы места рядом.
Юлия Подлубнова. Девочкадевочкадевочкадевочка. Екб.; М.: Кабинетный ученый, 2020
Это первая книга в серии «InВерсия», которая будет выпускаться по следам одноименного челябинского фестиваля: одно из самых заметных в последнее время поэтических событий заставляет вновь говорить о важности Урала на русской литературной карте. «Девочкадевочкадевочкадевочка» — дебютный поэтический сборник Юлии Подлубновой (именно поэтический — в 2017 году под одной обложкой вышли ее статьи о современной уральской поэзии).
С одной стороны, можно сказать, что Подлубнова работает с концептуалистским наследием — в самом широком его понимании. Здесь есть «голые факты», переосмысленные в духе конкретизма и found poetry; есть откровенная телесность; а есть игра слов, затягивающая в водоворот отсылок: «Кому деточкин, кому маточкин, / кому шар, кому шматочек сала. / <...> Бог Гагарин еще не разбился. / Принудительная психиатрия / еще практикуется». Это, разумеется, стихи о шестидесятых, о прошлом, только названы они «Будущее». Причем имеется в виду не то, которое представлялось людям 1960-х, а совершенно другое, потаенное. «Каждый цветок у корпусов Кащенко — / поцелуй в далекое будущее». Что выросло, то выросло.
С другой стороны, чего здесь нет, так это характерной для концептуалистов иронии — хотя в послесловии к книге Галина Рымбу отмечает у Подлубновой именно ироничность («Подлубновой удается присвоить иронию как свое орудие, вскрывая сущность иронии именно как чувства политического самосохранения...»). Злое и отчаянное остроумие — это не ирония. Строки в духе «Панельные многоэтажки — / каменное говно / советской цивилизации» невозможно прочитать как ироническое отстранение, как жест с двойным посылом: это прямое высказывание, уязвимое в своей грубости. Во второй части книги есть несколько стихотворений, будто запечатлевающих нервный срыв: «минус вся эта сраная жизнь, / минус вся эта сраная жизнь, / простите, плюс на плюс дает минус, / минус на минус дает минус, / социальные сети, минус я минусь, / минус женщина около 40, / без особых перспектив и надежд»; в третьей части находим текст прямо конфессиональный:
В 5 я все поняла про устройство вещей, и мне стало неинтересно.
В 13 я все поняла про страну, и мне стало, да, неинтересно.
В 17 я все поняла про гендер и сексуальную ориентацию, и мне стало неинтересно.
В 20 я чуть не сошла с ума, и мне стало неинтересно.
<...>
Тут надо что-то написать про 38,
но в 38 я ровным счетом ничего не понимаю
и лишь ежедневно говорю себе:
с завтрашнего дня обещаю быть милой, доброй, женственной,
ни слова о политике и депрессии
и т. д. Двойственность тут в том, что личный аффект вписан в социальный контекст — но в рамках книги Подлубновой кажется, что иначе и быть не может. «В описываемом ею мире нет ничего, что не было бы социальным», — пишет Рымбу.
 О двойственности еще поговорим, а пока хочется вернуться к категориям времени. Их многослойность — важная примета стихов Подлубновой. Она, как правило, работает с настоящим — в грамматическом смысле — временем, с назывными предложениями — и пишет о настоящем, текущем, медленно текущем моменте. Но всякий раз она подчеркивает его историчность, как бы делает его фотоснимок для будущего:
О двойственности еще поговорим, а пока хочется вернуться к категориям времени. Их многослойность — важная примета стихов Подлубновой. Она, как правило, работает с настоящим — в грамматическом смысле — временем, с назывными предложениями — и пишет о настоящем, текущем, медленно текущем моменте. Но всякий раз она подчеркивает его историчность, как бы делает его фотоснимок для будущего:
Люди, скажите чиииз
вежливому гражданину
с фоторужьем.
По случаю Дня защиты детей
колесо обозрения
взвешивает человечину.
Таких мрачных пассажей, отчетливо апеллирующих к политической реальности 2010-х, здесь много: «Виртуозная игра / на автомате Калашникова», «Джихадист мечтает о рае — / чалма или взорванные мозги?», «ты отравленный телевизор / ты навальный аврал подснежник», «нефтегазовая лампочка / в конце коридора». Пессимистичны, впрочем, и тексты, с общественно-политической повесткой не связанные, — но и в тех, и в других можно уловить неожиданный в такой атмосфере сентимент, некую надежду. Она может быть зашифрована в маленькой детали, в подвернувшемся языковом штампе, даже в примечании: убийственная «Японская колыбельная» завершается переводом трех японских фраз, которые в ней были использованы — и их сочетание в отдельном пронумерованном фрагменте стихотворения и отвечает за сентиментальный штрих: «Не умирай»; «Люблю тебя, дорогая», «Спи спокойно». А может быть, сентиментальна сама идея писать стихи под звуки стреляющих балалаек, металлического скрежета и газового шипения. «Батискаф погружается. // Девочкадевочкадевочкадевочка». Склеенное слово из заглавия книги оказывается обращением к самой себе. Ты должна напоминать сама себе, своим голосом, что бывают человеческие голоса и человеческие слова.
Стоит помнить только, что — в соответствии с концептуалистскими правилами — этот заключительный штрих может нести амбивалентный смысл. «Голубые глаза / продавщицы фарша»: что это — две небесных искорки посреди мясной реальности? признак истинно арийского фенотипа? просто случайно замеченная подробность, работающая как цветовой контраст на импрессионистском полотне?
Сергей Круглов. Тысячелетие Битлз. М.: Стеклограф, 2019
Книга поэта и священника Сергея Круглова — не столько путешествие по известным песням и джазовым композициям, сколько каталог ассоциаций, которые они вызывают. Она разделена на пять частей, «Битлз» занимают только первую — но мне, как битломану со стажем, хочется об этой первой части поговорить подробнее.
Название книги может означать, что второе тысячелетие от Р. Х. было определено «Битлз», а может и предсказывать их тысячелетний юбилей — что, в общем, равно констатации «эта музыка будет вечной». Одна трактовка другой не противоречит, и заглавное стихотворение можно можно читать в соответствии с любой из них. Круглов сталкивает здесь разные контексты — концерт, хэппенинг в дни Лета Любви, социальный месседж, благодаря которому в советской прессе конца 1960-х битлы из волосатых жучков превратились в хороших ребят из рабочего класса, поющих антивоенные песни.
Лондон, центр мира, весна.
Планета усохла, холодная война, люди как в пустыне.
Перед собором Павла демонстрация разогнала туман:
Весна, че, свобода, марихуана, любовь!
Бога в толпе почти не видно. Зато видно
Пастора Маккензи: он сжимает кирпич.
Пастор Маккензи, персонаж «Eleanor Rigby», продолжает ряд: возникает известное сопоставление битломании и религиозного культа (см., например, роман Юлия Буркина и Константина Фадеева «Осколки неба, или подлинная история „Битлз”»). Музыка «Битлз» — как и Джона Колтрейна, и Булата Окуджавы — для Круглова, конечно, связана с божественным началом. Возьмем стихотворение о смерти Люси О’Доннелл — подруги маленького Джулиана Леннона, вдохновившей его отца на создание «Lucy in the Sky with Diamonds»:
на розовом и голубом вокзале
нас встретят пластилиновые носильщики
в зеркальных галстуках,
и в такси из газетной бумаги мы поедем туда, где
закон Христов в нашем сердце
и Люси в небе в алмазах навсегда.
Цитата из психоделической песни монтируется — или скорее смешивается — с кантовским императивом и с христианским катехизисом. И мы получаем фильтр, через который можно воспринимать и «Люси», — почему бы и нет? А еще тут, конечно, есть чеховское «небо в алмазах», и эта русская аллюзия в книге не единственная. Микс английского рока с русской поэзией предполагает цитаты из обоих ресурсов — так что не удивляешься, прочитав, например, «Теперь так мало греков в Пепперлэнде, / что мы сломали Греческую церковь» (кстати, Бродский в интервью Соломону Волкову отзывался о текстах Леннона и Маккартни с большим одобрением).
 В ассоциативном ключе решены и другие тексты книги. Последняя ее часть — стихи-отзывы на тексты The Doors, Gogol Bordello и Blackmore’s Night: даже не вольные переводы, а вариации. Вторая часть, «Песок и солнце», — про джаз; она посвящена Андрею Сен-Сенькову, написавшему о джазе очень много, и мы сразу распознаем здесь оммаж сен-сеньковской поэтике:
В ассоциативном ключе решены и другие тексты книги. Последняя ее часть — стихи-отзывы на тексты The Doors, Gogol Bordello и Blackmore’s Night: даже не вольные переводы, а вариации. Вторая часть, «Песок и солнце», — про джаз; она посвящена Андрею Сен-Сенькову, написавшему о джазе очень много, и мы сразу распознаем здесь оммаж сен-сеньковской поэтике:
верблюд
узловатый коленчатый
медленный
саксофон Бога нашего
Здесь воспевается синестезия. Звуковые ощущения перетекают в зрительные и тактильные. «осторожно! не наступи: / саксофон / пьян в слизь»; «шурша мокрым асфальтом / проплывают рояли». Дальней, но, может быть, верной параллелью к этим стихам кажется цикл Юрия Левитанского «Кинематограф». Советский поэт делал — также с привлечением музыкального контекста — раскадровку времен года. Круглов работает иначе, почти вся книга написана свободным стихом, грамматические связи легче, пунктирнее — но и эти стихи напоминают синопсисы для синестетического кинематографа. Вот «John Coltrane» — последовательное описание ощущений от музыки: «первые полчаса / музыке отдаёшься мнишь: / чистая радость // облака радости облака / ангельские золоторозовые хоралы // но свет незаметно прибывает / перестраивая на ходу свою структуру...»
Примечательно, что музыка прорывается через письмо — как бы вопреки воле автора. Так, стихотворение «Свинг» поневоле читаешь в раскачивающемся ритме. Давнее стихотворение «Яна Дягилева» начинается фольклорными распевами, а затем вдруг прерывается:
Нет, стоп, не на тот мотив повело.
Ни плачи, ни пляски — не звучат, дают петухов.
Её не стилизовать.
Никакому умнику не понять тайны
Песни Песней — как
Это цыплячье тощее лоно
Может благоухать ворохами пшеницы?
Что в ней, засранке, сернино?
Кто там у нее пасёт между лилиями?
У кого не поднимется гранитный ноготь
Раздавить копошащееся крапивное семя?
Кто прекраснее тебя, возлюбленная Моя,
Ты, что виноградника своего не уберегла?
Один ритм, «мотив», просто сменяется другим: игла перескакивает через трещину в пластинке и попадает на музыку совсем другого жанра. Так и у Псоя Короленко о. Сергей Круглов слышит «шестопсалмие», из песни Blackmore’s Night о возвращении домой делает хипповый текст о Втором пришествии, а в гитаре Gibson видит «деревянную девочку», призревающую на «всех бродяг мира сего»: «Они все — / под моим омофором».
Анатолий Гаврилов. Таким, значит, образом. Berlin: Propeller, 2019
Совсем небольшая книга известного прозаика, одинокого конкретиста. Стихи и микропроза Гаврилова — это звено в цепи между бараками Холина и спальными районами Данилова, и звено это не столь известно, потому что у него нет «своего» локуса. Эти тексты прячутся между очерченными пространствами, коротают время в электричках, ожидают обнаружения ментами в лесополосе:
Я всегда одевался стильно.
Мать нарколог, отец — прокурор.
А вчера я устроил дебош.
И сейчас я в овраге
Где поют соловьи.
«Переходность» поэзии Гаврилова еще и в том, что между полной отстраненностью Холина и полной эмоциональной, даже сентиментальной вовлеченностью Данилова (говорю сейчас не о «Горизонтальном положении», а именно о поэтических сборниках) гавриловские стихи как раз соблюдают некую дозировку «я». Это «я» теневое, «я» в ряду вещей и явлений; тут уместнее вспомнить уже не Холина, а Сатуновского. Говорящий в текстах Гаврилова относится к себе так же, как ко всему остальному:
И только подумал, что сейчас могу зацепить, и зацепил вилкой, и опрокинул бокал с вином, и официант молча заменил и бокал, и скатерть, и я подумал, что было бы хорошо, если бы он заменил и меня.
Налицо усталая ирония — часто, впрочем, у Гаврилова мы видим усталость без иронии: он пишет о монотонности жизни, и название «Таким, значит, образом» конгениально содержанию текстов. Остается только констатация, то ли стоическая, то ли депрессивная: «Ничего особенного, ты сам выбрал это». Движение коротких стихотворений и прозаических фрагментов в книге создает ритм — его убедительность дает о себе знать, когда один небольшой текст попадается в книге вторично. Нарочно ли Гаврилов его повторяет — или сказывается вполне приличествующая DIY-издательству Propeller легкая безалаберность? Как бы то ни было, повтор не возмущает, а вписывается в логику гавриловского эксперимента (тем более что дальше мы еще встретим вариации одного и того же мотива). Это логика записной книжки («„Пусто, холодно, страшно”, Чехов, пьеса „Чайка”, кто помнит, тот понимает, кто не помнит, тому еще предстоит» — обратите внимание на пунктуацию), междужанровая логика монтажа. Тексты в книге можно уподобить блокам — таким же, как и отдельные строки в стихах Гаврилова: благодаря совпадению строк и предложений стихотворение вполне можно счесть и рассказом в несколько коротких абзацев:
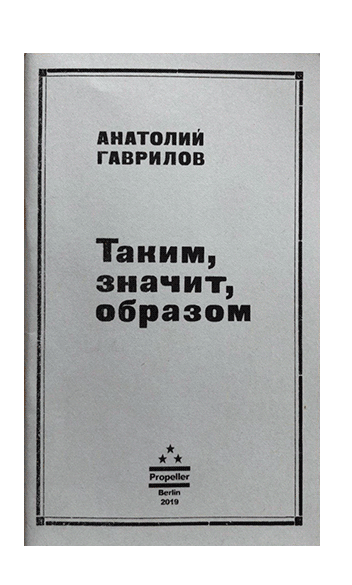 Жена уехала на дачу.
Жена уехала на дачу.
Там ей лучше, чем дома.
А мне лучше, когда ее нет.
Женился на ней из-за угроз повеситься.
А также из-за квартиры и дачи.
Позвонил ей — молчит.
Позвонил ей еще — молчит.
Может, наконец-то повесилась?
Поехал.
Повесилась.
Книгу завершает интервью издателя Ильи Китупа с автором, ответы здесь куда короче вопросов. И это еще одно дополнительное свидетельство о манере Гаврилова: многословие ему органически чуждо.