Катастрофа, сравнимая с блокадой Ленинграда
О книге Елизаветы Хатанзейской, посвященной Архангельску времен сталинизма
Елизавета Хатанзейская. Советский город в экстремальной повседневности: Архангельск в эпоху индустриализации и Второй мировой войны 1929‒1945 гг. М.: РОССПЭН, 2021. Содержание
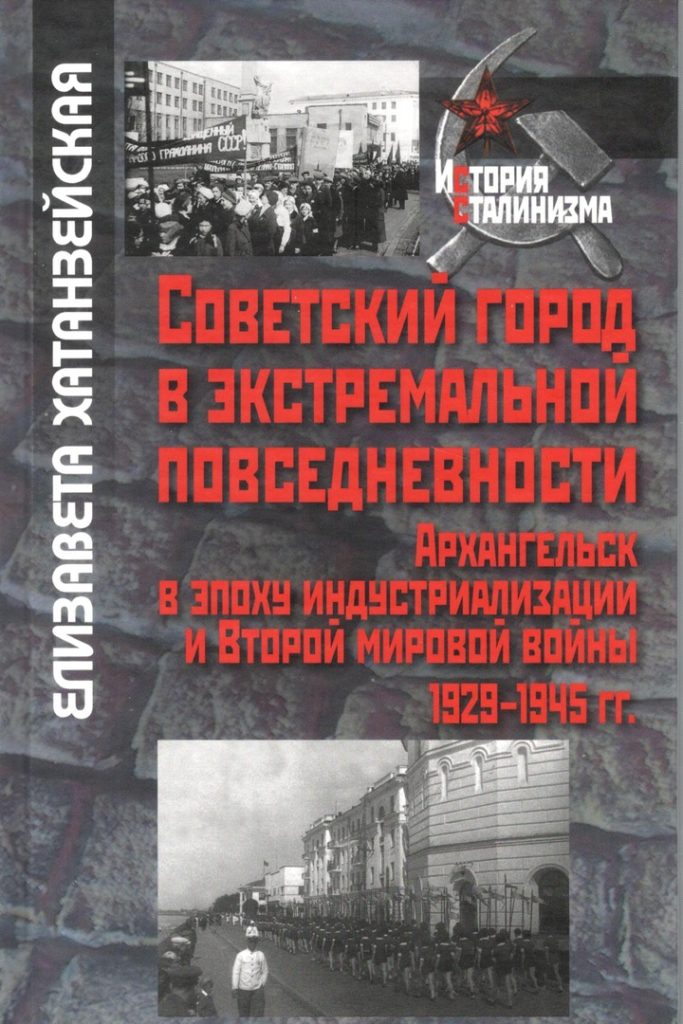 Повседневная жизнь и социальная структура сталинского СССР впервые стали предметом научного интереса более полувека назад, еще до того как иностранные исследователи получили доступ в советские архивы, а отечественные смогли работать без цензурных ограничений. И хотя к настоящему моменту на эти темы написаны уже целые библиотеки, история Советского Союза со временем предстает пред нами все более многообразной и парадоксальной: начало тридцатых оказывается не похожим на середину, а середина — на конец, жизнь советских женщин не похожа на жизнь советских мужчин, порядки в отдаленных от Москвы республиках не похожи на порядки в РСФСР, содержание дневников противоречит содержанию мемуаров и т. д. В этом смысле исследование Елизаветы Хатанзейской, посвященное повседневности жителей Архангельска в 1929–1945 гг., претендует на двоякую роль. С одной стороны, изменения в социальном составе этого города в процессе индустриализации и под воздействием массовой миграции вроде бы типичны для советских городов, а с другой, Архангельск как столица Северного края (в 1929–1936 гг.) стал столицей и многочисленных пенитенциарных учреждений этого региона (самый известный из которых — Соловецкий лагерь) и местом высылки кулаков, лишенцев и прочих нежелательных элементов со всего Союза, а кроме того — плацдармом индустриализации всего европейского севера СССР; поэтому в случае Архангельска тенденции, присущие социальной истории сталинизма в целом, особенно заостряются.
Повседневная жизнь и социальная структура сталинского СССР впервые стали предметом научного интереса более полувека назад, еще до того как иностранные исследователи получили доступ в советские архивы, а отечественные смогли работать без цензурных ограничений. И хотя к настоящему моменту на эти темы написаны уже целые библиотеки, история Советского Союза со временем предстает пред нами все более многообразной и парадоксальной: начало тридцатых оказывается не похожим на середину, а середина — на конец, жизнь советских женщин не похожа на жизнь советских мужчин, порядки в отдаленных от Москвы республиках не похожи на порядки в РСФСР, содержание дневников противоречит содержанию мемуаров и т. д. В этом смысле исследование Елизаветы Хатанзейской, посвященное повседневности жителей Архангельска в 1929–1945 гг., претендует на двоякую роль. С одной стороны, изменения в социальном составе этого города в процессе индустриализации и под воздействием массовой миграции вроде бы типичны для советских городов, а с другой, Архангельск как столица Северного края (в 1929–1936 гг.) стал столицей и многочисленных пенитенциарных учреждений этого региона (самый известный из которых — Соловецкий лагерь) и местом высылки кулаков, лишенцев и прочих нежелательных элементов со всего Союза, а кроме того — плацдармом индустриализации всего европейского севера СССР; поэтому в случае Архангельска тенденции, присущие социальной истории сталинизма в целом, особенно заостряются.
Круг вопросов, охватываемых книгой, действительно впечатляет — здесь есть параграфы, посвященные демографической истории города, развитию промышленности, истории коммунального хозяйства и жилищно-бытовых условий, карательной политике ОГПУ-НКВД, стратегиям выживания горожан в 1930-е и в военные годы и многому другому. Основной же вопрос, заданный автором во введении и служащий призмой, через которую Хатанзейская рассматривает вышеперечисленные темы, звучит так: какова была «цена рывка» (т. е. форсированной индустриализации) и «цена победы»?
Отвечая на этот вопрос, автор задействует огромный объем эмпирических (и прежде всего — статистических) данных. В то время как первая глава посвящена собственно «рывку», все последующие так или иначе перечисляют жертвы, на которые пришлось ради него пойти. В начале рокового десятилетия город и край наводняются сотнями тысяч ссыльных (которых НКВД не в состоянии вовремя ни расселить, ни трудоустроить) и крестьян, бежавших из разоренных коллективизацией деревень — этим людям и предстоит создавать отрасли промышленности и целые города практически из ничего. Поскольку население города мгновенно увеличивается в разы — Архангельск потрясает жилищный кризис, и на человека приходится в среднем меньше 4,6 м² жилплощади; поскольку на промышленные предприятия поступают вчерашние селяне — растет количество производственных травм и падает производительность труда; поскольку монопольная система распределения, призванная накормить и одеть всех этих людей, создается наспех — ее недостатки приходится компенсировать черному рынку и неформальным связям, т. н. блату, что увеличивает неравенство между различными слоями общества; поскольку большая скученность населения и скудное снабжение провоцируют эпидемии, а медицинская отрасль развивается не столь быстрыми темпами — самое необходимое опять-таки оказывается в дефиците и распределяется неравным образом. Все перечисленное, в свою очередь, становится поводом для массовых репрессий против «вредителей» — так, будто это не закономерные результаты ряда системных ошибок, а вина конкретных кадров.
Вторая часть книги рассказывает о «цене победы» — и тут Архангельск в некотором роде представляет собой особый случай. Он оказался в статусе прифронтового города еще в 1939 году, когда началась Зимняя война, а во время Великой Отечественной стал ближайшим тылом Карельского фронта. Довольно хаотичная, как показывает автор, система снабжения города спровоцировала голод, особенно сильный зимой 1941–1942 гг.; в общей сложности в 1941–1944 гг. от голода и болезней погибло 38 тыс. горожан (что сравнимо с последствиями блокады Ленинграда, если сопоставить жертвы и общую численность жителей этих городов).
В общем, представление о повседневности ряда сфер общественной жизни Архангельска дается довольно подробное: сколько предприятий построено, сколько заключенных отправлено на эти предприятия работать, какова была заболеваемость тифом в такой-то год, какой процент населения могла обслужить служба ассенизации и т. д. Но все эти цифры для такой дисциплины, как историческая антропология, к которой свой труд причисляет сама Хатанзейская, — это только полдела. Они нуждаются в интерпретации. Ей здесь, как представляется, призван служить вышеупомянутый вопрос о «ценах»: приняв во внимание все вновь открытые факты, мы как будто должны навсегда ответить, каковы были «цена рывка» и «цена победы» — «слишком большая», и на этом навсегда завершить для себя классический спор о сталинизме. И все-таки, разделяя гуманистический посыл этого взгляда, я не могу не заметить, что в самом этом вопросе — в любой его формулировке — заложена та двойственность, которая и порождает бесконечный спор, так как два противоположных ответа обуславливают друг друга. Цена была слишком большая, потому что рывок был грандиозным, а рывок был грандиозным, потому что на него израсходовали все, что могли. Это вшито даже в структуру книги Хатанзейской: если человек, не лишенный впечатлительности, прочтет первую главу, где повествуется, как за десять лет создано пять вузов, десятки школ, утроен грузооборот Архангельского порта, построен целый город Молотовск (ныне Северодвинск) и т. д., и на этом закроет книгу, то с высокой вероятностью остаток дня он проведет в состоянии возвышенного сталинского оптимизма; если же он пропустит эту главу и сразу займется уяснением цены, заплаченной за вышеперечисленные чудеса, то закончит чтение в самом гадком расположении духа. Не стоит искать истину ни в одной крайности, ни в другой, ни посередине — и поэтому историки, как правило, просто задают своим героям другие вопросы: как в сознании вдохновителей «рывка» сложился этот замысел? Как подобное стало возможно с точки зрения институтов, социальной структуры или разделяемых различными группами ценностей? Что двигало теми, кто этому способствовал, и теми, кто этому сопротивлялся?
На самом деле материал, представленный в книге, вполне способен прояснить некоторые из этих вопросов. Так, Хатанзейская показывает, например, почему в 1930-х годах на архангельских предприятиях учащались аварии и как это стало поводом для несправедливых обвинений технического и административного персонала во вредительстве. Из этого читатель может дедуцировать логику карательных органов: все, что ни происходит в обществе, происходит в соответствии с чьим-то умыслом, и если целлюлозно-бумажный комбинат не выполнил план, значит, кто-то из его работников не хочет, чтобы Советский Союз мог печатать свою литературу. Этот ход мысли спустя почти столетие кажется совершенно абсурдным — но учитывая, сколько он значил для героев книги, именно он более всего и нуждается в объяснении.
Однако даже обилие цифр и фактов не может быть безусловно отнесено к достоинствам этой книги. Хотя значительная часть источников добыта в архивах, некоторые удивившие меня тезисы сопровождались ссылкой на опубликованные материалы, так что я смог их проверить. Например такой: «По данным профессора В. И. Коротаева, смертность спецконтингента от голода и болезней по Северному краю в 1930–1933 гг. составляла 51%». Между тем только в 1930 г. в Архангельск прибыло около трехсот тысяч сосланных — неужели сто пятьдесят тысяч сразу же погибли? Если мы откроем книгу Коротаева, на которую ссылается Хатанзейская, то прочтем следующее: «В 1932—1933 гг. численность спецпереселенцев резко сократилась из-за голода, длительного обустройства в местах поселения, высокой заболеваемости и смертности, бегства из спецпоселков. Закономерно, что между 1 января 1932 г. и 1 января 1934 г. их численность сократилась в Северном крае на 51,5%, на Урале — на 28,0%, Северном Казахстане — на 31,1%, а в целом по СССР — на 22,8%». Как видим, в 51% включены не только погибшие в ссылке, но и бежавшие из нее, а также выбывшие каким-то иным способом — а это существенно меняет дело. Шейла Фицпатрик, одна из ведущих исследователей сталинской эпохи, сообщает в книге «Повседневный сталинизм» следующее: «Многие другие из года в год бежали из ссылки — по словам одного российского историка [Виктора Земского. — Прим. ред.] между 1932 и 1940 гг. бежало более 600 000 чел., из них две трети, свыше 400 000 чел., успешно». То есть удачные побеги из ссылки были столь же обыденной вещью, как и сама ссылка, и доля бежавших среди этого 51% может оказаться весьма существенной.
Другой пример с той же страницы: «По городу Архангельску за март и 10 дней апреля 1930 г. из 8 тыс. детей заболело и умерло 6007 чел.». Хатанзейская ссылается здесь на письмо В. Н. Толмачева к Сталину, опубликованное в сборнике «История сталинского ГУЛАГа». А написано в письме вот что: «По г. Архангельск за март и 10 дней апреля из 8 тыс. детей заболело 6007 человек. Из них: скарлатиной — 199, корью — 1154, гриппом, воспалением легких — 21, умерло детей — 587». То есть 6007 заболевших детей, среди которых 587 умерло, в пересказе Хатанзейской превратились в 6007 умерших детей.
Разумеется, это не отменяет того факта, что смертность среди ссыльных, отправленных в город, где для них не успели возвести даже нужного количества бараков, зашкаливала и гибель 587 из 8 тысяч детей — это катастрофа и, вероятно, результат преступной безответственности со стороны организаторов сталинской системы здравоохранения. Но многократное завышение этих чисел зачастую сеет в людях сомнение, что речь идет о реальных трагедиях — и скорее вредит изначальному посылу автора.
Тем не менее эти ошибки вряд ли можно отнести на счет недобросовестности — Хатанзейская приводит так много данных, что перепутать их было немудрено, и явно выбивающиеся из общего порядка числа сразу бросаются в глаза. Поэтому изложение канвы событий, описание социальной структуры, оценки масштабов индустриализации, жертв тех или иных катаклизмов и т. д., приведенные в книге, скорее заслуживают доверия. Но, увы, очень многие из этих данных остаются лишь голыми цифрами, сами по себе мало чего объясняющими. Так, Хатанзейская затрагивает интереснейший сюжет рурализации города: за десять лет Архангельск разросся в несколько раз — в основном за счет переселенцев из деревни. Из книги мы можем узнать об их количестве, условиях труда и снабжении, а также о том, как навыки охоты, собирательства и земледелия пригодились в голодные годы войны. Но большая часть этих фактов представляет скорее рамку повседневной жизни, чем ее непосредственное содержание. Объединялись ли эти люди, например, в землячества или, приехав из разных мест, мгновенно перемешались? Отвергали ли они нормы городской культуры или, напротив, старательно ее усваивали (и что под ней в тот момент понималось)? Держали ли связь с родственниками? Как находили «блат»? Различались ли настроения пришлых горожан и коренных? Как устраивали личную жизнь, учитывая, что переезжали в основном мужчины и гендерный дисбаланс населения был огромен? Я думаю, что без таких деталей трудно представить себе повседневную жизнь кого бы то ни было. А они в «Советском городе в экстремальной повседневности» представлены куда как скудно — в виде разрозненных свидетельств, чаще призванных проиллюстрировать какой-нибудь статистический тезис, нежели обогатить его (хотя есть, конечно, и исключения).
И все же, раз уж до сих пор мы не имели никакого обобщающего труда по социальной истории сталинского Архангельска, да и в целом не так уж много советских городов становились предметом подобных исследований, книга Хатанзейской в значительной мере восполняет этот пробел. Наверное, полезна она будет и тем, кто все еще уверен, что первые модели плановой экономики работали как часы. Но сам предмет исследования — повседневность жителей северного города в 1929–1945 гг. — все еще остается для нас в тумане.