«Какое-то библейское изобилие. Где все это?»
О книге Всеволода Воинова «Материалы по современному искусству: дневник 1921–1922»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Всеволод Воинов. Материалы по современному искусству: Дневник 1921–1922. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. Издание подгот. И. А. Золотинкина, И. Н. Карасик, В. Г. Перц, Ю. Л. Солонович. Содержание
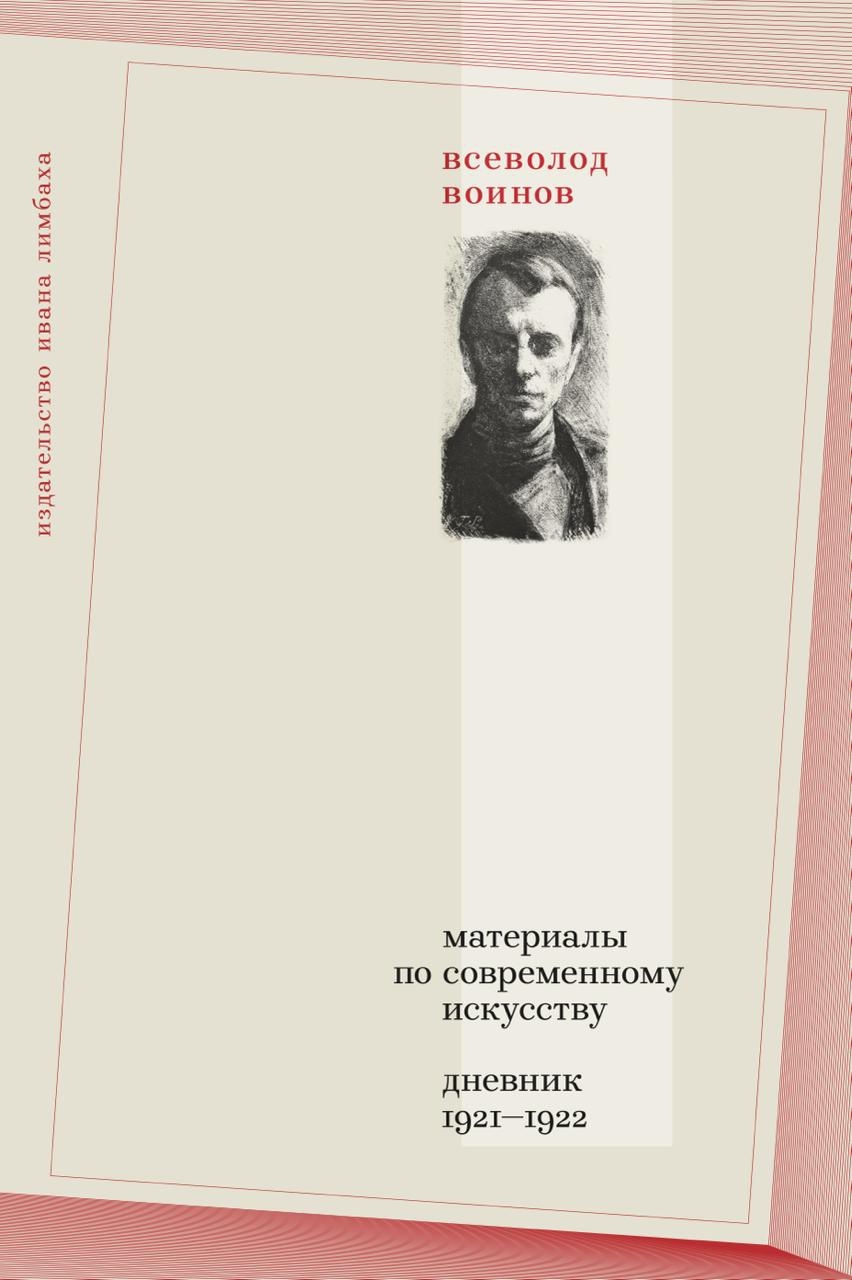
Всеволод Воинов, как многие его современники, соединял в себе практика и теоретика искусства: художник и музейный сотрудник, гравер и собиратель книг, он оставил дневники, полную публикацию которых сейчас предпринимает Издательство Ивана Лимбаха. Издание полностью отвечает академическим стандартам: 1364 подробных комментария составляют половину объема книги в 776 страниц. Вступительный раздел «От составителей» подписан четырьмя хорошо знакомыми именами сотрудников Русского музея: Ирина Золотинкина из Отдела гравюры, Юлия Солонович — из Отдела графики, и двое из Отдела новейших течений — Ирина Карасик и Владимир Перц, которого, к сожалению, уже нет на свете.
Воинов с 1910 года работал в Эрмитаже, в 1919 году стал ассистентом Отдела Картинной галереи по Кабинету гравюр и рисунков. Изданные дневниковые записи охватывают ровно год и два месяца — с 30 октября 1921 по 31 декабря 1922 года. Странно было бы ждать за такой срок заметных изменений личности автора или его стиля, но читатель застает повествователя в ситуации жизненных и профессиональных перемен: во второй половине 1922 года Воинов переходит из Эрмитажа в Русский музей на должность заведующего Отделением рисунков и гравюр.
«Среди коллекционеров» — журнал, чьим постоянным автором Воинов выступает в это время так же, как прежде — «Аполлона» и «Старых годов». Как литератор, пишущий об искусстве, и знаток печатной графики он сотрудничает со многими издательствами и вновь возникающими с началом НЭПа журналами, готовит посмертную выставку Георгия Нарбута в Русском музее и активно участвует в деятельности созданного «Общества любителей художественной книги».
Дневник Воинова отличает регулярность ведения и подробность записей — настолько, что взволновавшую его историю он способен излагать не один раз, не меняя расставленных акцентов и своих оценок по существу. Всех персонажей дневника автор неизменно называет по имени и отчеству, даже если использует акронимы, разве что художник Георгий Верейский то и дело именуется Жоржем.
Начальные записи — обширная биографическая заметка о Кустодиеве, который будет появляться почти на каждой странице этого дневника, — Воинов готовит монографию о художнике, которая увидит свет в Государственном издательстве в Ленинграде в 1925 году. Очевидно, что Кустодиев для Воинова, что называется, «его художник», близкий не только эстетически, но и человечески. В описываемое время Воинову, родившемуся в 1880-м, 41 год, Кустодиев старше всего на два года, но давно прикован болезнью к креслу-каталке. Оба они кажутся представителями даже не старшего, а прежнего поколения: революционные события выводят на авансцену людей с совершенно другим опытом и ощущением жизни, как Пунин, Татлин, Альтман, чья разница в возрасте с автором дневника в десять или меньше лет оказывается значимой.
Заголовок, данный автором — «Материалы по современному искусству», — обманчив: в наши дни под современным искусством 1920-х годов, как правило, понимается русский авангард. Воинов при одном упоминании беспредметного искусства едва не срывается в своих записях на крик. Вот он пересказывает впечатления Верейского о выставке новых течений, открытой в залах Музея художественной культуры летом 1922 года: «Ничего нового, убивающая всякую мысль об искусстве бессмыслица и нивелировка, говорить о мастерстве, о „хорошо“ и „плохо“, „талантливо“ и „бездарно“ нельзя, весь вопрос, например, в том только, кто быстрее сделает, потому что закрасить доску ровно одной краской может и малярный подмастерье и гений, — разница будет разве в сроке (один тише, другой скорее) — но результаты будут совершенно одинаковы и в том и в другом случае». Эти высказанные 103 года назад аргументы в точности совпадают с любыми обвинениями в адрес современных художников наших дней.
Фраза об «удручающей пустоте всей стряпни этих новаторов (??)» и два вопросительных знака, поставленных автором, кажется удивительно знакомой. Посетив 17 декабря 1922 года новую экспозицию Русского музея, он пишет: «Я заметил любопытное явление. Молодежь быстро минует залы нижнего этажа и прямо проходит к футуристам. Их наличие, несомненно, действует растлевающим образом. Слишком легок успех».
17 августа 1922 года Воинов был извещен письмом о приеме в члены «Мира искусства», что выглядело несколько старорежимной формальностью, — как художник и как критик он давно и тесно связан с мирискусниками. На страницах дневника регулярно появляются Александр Бенуа, Степан Яремич, Сергей Эрнст, Федор Нотгафт и другие авторы журнала «Старые годы», многие из которых были его сослуживцами по Эрмитажу. За несколько дней до этого в газете «Жизнь искусства» вышла статья Пунина, громящего очередную выставку «Мира искусства» и отказывающего художникам объединения в современности так же окончательно, как когда-то те — передвижникам. Все это делает понятнее реплику Воинова о Пунине, с чужих слов излагающего эпизод в Русском музее: «Мимо Серова он прошел, закрыв глаза рукой… Вот так, жалкий кривляка!»
Споры о том, что такое современное искусство и в чем его ценность, ведутся до сих пор, но особенно жарко в России, — не потому ли, что любая модернизация здесь наталкивается на сложности? Во времена, описываемые автором дневника, свои права на современность заявляли различные художественные группы, но для «Мира искусства» в 1922 году все было в прошлом, и, чтобы понимать это, не надо быть Пуниным.
Другая мишень Воинова и его круга — член «Мира искусства» Кузьма Петров-Водкин: автор дневника и его собеседники постоянно упрекают художника в рациональности живописных схем, возмущаются его преподавательской нетерпимостью. Однако, побывав на Постоянной выставке в Обществе поощрения художеств, Воинов оценивает работу Петрова-Водкина: «Букет на красной скатерти — очень хороший».
У Воинова есть такая запись: «По дороге заходили с В. К. к какому-то матросу, вселенному в особняк на Миллионной улице (выходит на набережную). Смотрели шкафик Bull и превосходную барочную столовую (темный дуб). Квартира, конечно, превращена в свиной хлев, а мебель — продается!» К этой истории воображение легко подставляет «Новоселье» Петрова-Водкина — большую и мучительную картину, написанную в 1937 году художником незадолго до смерти.
В начале дневника Воинов упоминает появившиеся после 1917 года речевые формы и выражения, и в их числе привычное теперь слово «обязательно». Еще одно словоупотребление будет неожиданным для современного читателя — перечисление бытовых просьб в письме своего учителя и старшего товарища, художника Василия Денисова «вроде валенок, полушубка, меховых штанов, спирта, портвейна, мадеры, кофе мокко etc., etc.», — Воинов завершает фразой: «Все, что он понаписал, стоит сотни „лимонов“, а пожалуй, подберется и к „апельсину“».
1921 и 1922 годы — время не только голода и разрухи, но и галопирующей инфляции. В записи от 28 марта: «Пошел в Дом ученых, получил очередную получку продуктов: муку (4 фунта), изюму (4), 2 фунта сахарного песку, ухлопал на это 1.200.000 р.!» Продукты, которые Воинов получал в КУБУ (знаменитая «Комиссия по улучшению быта ученых», организованная Горьким), и посылки от «Американской администрации помощи» (ARA) многих спасали от голода: «Был у Кустодиевых, чтобы сообщить им приятную весть о назначении им 3-х семейных пайков и передать именной экземпляр книги Эрнста о Серове». Быт и творчество, высокое и низменное, коллекционирование искусства и забота о пропитании постоянно переплетаются на страницах дневников послереволюционных лет ставшим уже привычным образом.
Рефреном у Воинова, как почти у всех современников в диапазоне от дневников Константина Сомова до «Апокалипсиса нашего времени» Василия Розанова, выступают описания ушедшего быта. Михаил Кузмин, в 1921 году ставший моделью для портрета, выполненного Воиновым в технике линогравюры, и соавтором монографии о художнике Дмитрии Митрохине, в финале знаменитого стихотворения того же года преподносит неожиданно и смело страницы из «Всего Петербурга»:
Торговые дома,
Оптовые особенно:
Кожевенные, шорные,
Рыбные, колбасные,
Мануфактуры, писчебумажные,
Кондитерские, хлебопекарни, —
Какое-то библейское изобилие, —
Где это?
Такой же пронзительной в описании Воинова оказывается одна из бесед с Кустодиевым, чье искусство нераздельно с бытом и обволакивает его: «Вспоминали роскошные и такие прекрасные своей наружностью цветные воздушные шары — целые гроздья их у торговцев; красные — синие, иногда шар в шаре, то в форме цеппелинов („колбасы“), иногда с петухами накрашенными… Надувающиеся свистульки. Шар улетел — зеваки смотрят за ним, когда скроется из глаз. Шары вывешивали за форточку. Где все это?» Можно считать непреднамеренным точное совпадение двух текстов, чье пересечение образуется реальностью жизни.
Многие дневники этих лет написаны «с прямой спиной», что трудно сейчас представить, — удивительное достоинство и сдержанность не сразу распознается и сначала кажется эстетским солипсизмом, как запись, сделанная Воиновым в свой день рождения, 14 марта (1-го по старому стилю) 1922 года: «Когда все ушли, дети показали мне свои недоконченные подарки. … Вадя сделал целую книжку, где описал свое прошлогоднее пребывание в тюрьме. Я давно мечтал, чтобы он записал этот замечательный случай в современном духе. И вот наконец он это сделал, да еще посвятил мне». Публикаторы отмечают, что «во время массовых обысков, допросов, засад и арестов в Петрограде после Кронштадтского восстания 1921 г. задержание подростков из семей подозреваемых считалось вполне обыденным». Понимая, сколько сил и увлеченности требуется, чтобы отдаваться в такой ситуации изучению русских книгоиздательских знаков, хочется простить автору дневника, скажем, бытовую юдофобию, то и дело проскальзывающую в записях.
После очередного визита к Кустодиеву Воинов цитирует художника: «Вся Россия ему представляется в галифе, френче со звериноподобной физиономией, которую он „не приемлет никак“». Описанное Воиновым образует разнообразные параллели с происходящим в наши дни, и название «Материалы по современному искусству» способно обрести для читателя новый смысл. Вот он заносит в дневник со слов Добужинского: «Г. И. Нарбут, рисовавший гербы, патриотические эмблемы, после переворота ходил и руководил сбиванием и снятием орлов с аптек и т. д. Его брат, Владимир Нарбут, перенесший разгром б. усадьбы, когда все мужчины были убиты, а он сам, получив 14 штыковых ран, скрылся, — ныне в Харькове сделался коммунистом и проповедует крайние положения».
В середине 1920-х все начинают покидать страну, хорошим поводом послужила представительная выставка русского искусства в Нью-Йорке, на плакате которой был изображен «Ямщик» Кустодиева: в 1923 году уезжает Сомов, в 1924-м — Анненков, Добужинский, Серебрякова, в 1926-м — Бенуа. В 1927 году закончится жизнь Кустодиева. Жизнь Воинова, которая выходит далеко за хронологические рамки опубликованного дневника (он умрет от инфаркта в Ленинграде осенью 1945 года), еще увенчается в финале книгой мемуаров под названием «Силуэты».