Как власть сформировала облик современных столиц
Николай Проценко — о книге Йорана Терборна «Города власти. Город, нация, народ, глобальность»
Последнюю из опубликованных книг отставного кембриджского профессора Йорана Терборна, одного из главных представителей современной марксистской традиции, можно считать образцом социологической урбанистики, но при желании ее можно читать и как исторический путеводитель по мировым столицам: гарантирован эффект присутствия в десятках городов мира и удовольствие от наблюдательности и феноменальной эрудиции автора. Впечатляет то, как Терборн смог объединить весь этот пестрый фактический материал с помощью концепции модернизационного процесса, согласно которой его средоточием уже больше двух столетий в основном являются столичные города.
Йоран Терборн. Города власти. Город, нация, народ, глобальность. М.: Издательский дом ВШЭ, 2020. Перевод с английского А. Королева. Содержание
Столицы и множественный Модерн
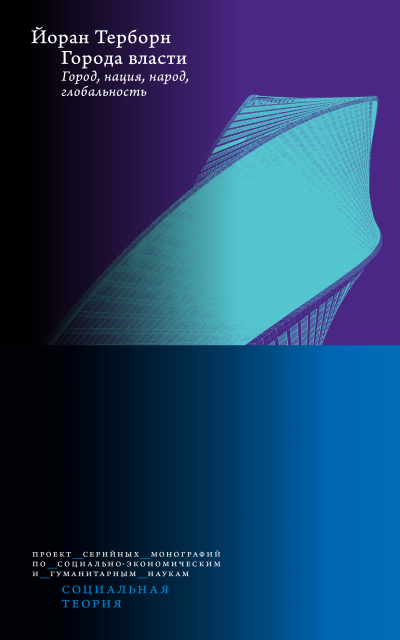 В определенном смысле книга Йорана Терборна, вышедшая в оригинале в 2017 году, представляет собой рефлексию над положением, в котором ближе к концу прошлого десятилетия оказалась идеология глобализации. С одной стороны, к тому моменту глобальные мегаполисы наподобие Нью-Йорка, Лондона или Шанхая уже заявили о себе как о новых исторических субъектах, переросших границы собственных государств, и эта их роль уже вряд ли отойдет на второй план. С другой стороны, в прошлое не собираются уходить и национальные государства, породившие эти города, — доктрина глобализации, предрекавшая в недалеком будущем мир без границ, определенно оказалась преждевременной, хотя это отнюдь не отменяет самой глобализации, которая просто не укладывается в единую модель.
В определенном смысле книга Йорана Терборна, вышедшая в оригинале в 2017 году, представляет собой рефлексию над положением, в котором ближе к концу прошлого десятилетия оказалась идеология глобализации. С одной стороны, к тому моменту глобальные мегаполисы наподобие Нью-Йорка, Лондона или Шанхая уже заявили о себе как о новых исторических субъектах, переросших границы собственных государств, и эта их роль уже вряд ли отойдет на второй план. С другой стороны, в прошлое не собираются уходить и национальные государства, породившие эти города, — доктрина глобализации, предрекавшая в недалеком будущем мир без границ, определенно оказалась преждевременной, хотя это отнюдь не отменяет самой глобализации, которая просто не укладывается в единую модель.
Нечто похожее уже происходило в ХХ веке с самим процессом модернизации, которая является тематическим стержнем книги Терборна. Сравнительно недавно по историческим меркам, после Второй мировой войны, считалось, что модернизации присущ некий единый вектор: встраивание всех стран в траекторию развития, определенную западным либеральным капитализмом, который за два послевоенных десятилетия вышел на пик своей мощи. Однако в дальнейшем некоторые незападные страны (самые очевидные примеры — Китай и Иран) продемонстрировали вполне жизнеспособные альтернативные модели модернизации, и поэтому к концу ХХ века вернее уже было говорить о «множественном Модерне» (этот термин ввел израильский исторический социолог Шмуэль Эйзештадт), а базовая, западная, парадигма модернизации оказалась под большим вопросом. С одной стороны, ее расшатывала постмодернистская критика, с подозрением относившаяся к любым «большим нарративам». С другой, в реалиях уже неолиберального капитализма модернизация стимулировала еще большее неравенство и новые диспропорции глобального масштаба, определенно перечеркивающие саму идею развития, которая лежит в основе парадигмы Модерна.
Все эти дилеммы закономерным образом отражались на городской среде — главном вместилище модернизационных проектов, среди которых эталонным на протяжении долгого времени оставалась реконструкция Парижа бароном Жоржем-Эженом Османом, префектом департамента Сена при Наполеоне III. Именно его градостроительные инициативы более чем полтора века назад превратили Париж в мировую столицу Модерна и стали образцом для подражания во многих других странах, а Франция, расквитавшись с наследием Старого порядка в результате четырех за неполное столетие революций, надолго превратилась в модель национального государства.
Почти всеобщий переход от традиционной монархической легитимности к новой, возникшей в битвах американской войны за независимость и череде французских революций демократической легитимности, в рамках которой источником власти является нация, был стремительным. Еще в 1700 году, напоминает Терборн, в мире не существовало ни одного государства, которое бы представляло себя в качестве государства суверенной власти нации, а спустя три столетия в качестве таковых себя позиционируют практически все страны мира, за исключением нефтяных монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Однако это не отменяет специфики включения разных стран в процесс модернизации, которая оказала решающее влияние и на облик их столиц.
Четыре столичные модели
Терборн выделяет четыре типа «национальных оснований» — сценариев возникновения национальных государств и развития их столичных городов.
Первый, характерный для Европы XIX века, следовал образцу Франции: путем к национальной государственности становилась обусловленная извне, но внутренняя реформа или революция. После того, как средневековые монархии либо уступали республикам, либо превращались из абсолютных в конституционные, все, что ранее носило титул королевского, включая столицу, становилось национальным, и одновременно резко снижалась роль церкви в жизни государства. Для облика же столиц одним из принципиальных моментов становилось то, что новым государственным институтам требовались собственные помещения, и наиболее подходящими для этого зданиями оказались особняки старых режимов.
Именно так резиденцией президента Франции стал Елисейский дворец, некогда принадлежавший любовнице Людовика XV маркизе де Помпадур, Национальное собрание заняло дворец одного из младших членов династии Бурбонов, а французский премьер-министр въехал в Матиньонский дворец, некогда тоже принадлежавший аристократам. В итоге, иронизирует Терборн, у национального Парижа так и не нашлось то ли времени, то ли денег для постройки монументальных зданий национальных институтов, хотя соответствующие грандиозные планы существовали с самого начала революций.
 Фото: Жорж Брассай
Фото: Жорж БрассайОднако этот немаловажный парадокс лишь подчеркивает общую черту столиц национальных государств «классической» Европы. Как правило, они создавались поверх уже сложившейся городской (зачастую столичной) среды, и, хотя пространственная организация этих городов претерпела значительные изменения, как это произошло в Париже усилиями Османа, преемственность с домодерным периодом в большинстве из них по-прежнему прекрасно видна.
И даже в тех странах Европы, где столицы представляют собой типичные модернистские города, эти следы прошлого так или иначе проступают. Например, в сербском Белграде, где от нескольких столетий османского владычества практически ничего не сохранилось, по-прежнему остались районы с турецкими названиями типа Карабурма или Топчидер, а в любом путеводителе вы прочтете, что национальный парламент — Скупщина — построен на месте самой большой белградской мечети. Бруталистский гипермодернизм архитектуры Белграда в данном случае оказывается обратной стороной запоздалого вхождения в европейский Модерн.
«Этот парадокс первопроходческого модернизма, совмещающегося с фактической тенденцией к сохранению памятников старины, объясняется в основном европейским империализмом, — утверждает Терборн. — Европа — единственная часть мира, досовременность которой не была завоевана и подавлена, которая не подвергалась смертельной опасности и не унижалась. Соответственно, ее донациональные и домодерные предыстория и наследие играют в этом случае бόльшую роль, чем в столицах, возникших по другим национальным траекториям».
Этот момент хорошо заметен на контрасте со вторым исторически сложившимся типом национальных государств — отделившимися от европейских метрополий преимущественно в XIX веке американскими колониями, где столицы либо приходилось создавать на ровном месте, либо выбор того или иного города в качестве столичного был неочевиден.
Хрестоматийный пример в данном случае — Вашингтон, новая столица первого независимого государства переселенцев. Несмотря на то, что в конце XVIII века город планировался с имперским размахом в соответствии с самыми передовыми урбанистическими идеями той эпохи, а построенный тогда же Капитолий сразу стал одним из самых внушительных зданий во всем мире, судьба столицы США оказалась непростой. Чарльз Диккенс, посетивший Вашингтон в 1842 году, нашел там «просторные проспекты, нигде не начинающиеся и никуда не ведущие; улицы, длиной в милю, которым не хватает разве что домов, дорог и обитателей; общественные здания, у которых все на месте, не считая общества, которое могло бы их заполнить». Словом, ничто не предвещало того, что спустя каких-то сто лет это будет столица главной мировой сверхдержавы, которой и в дальнейшем не удалось стать типичным американским мегаполисом. В архитектурном плане, отмечает Терборн, основным стилем Вашингтона остается неоклассицизм, используемый для важных зданий общественного назначения, модернистской иконографии в городе избегают, а строительству небоскребов препятствуют законодательные ограничения. К тому же столица США, названная в честь их первого президента-плантатора, устойчиво сохраняет колорит американского Юга: значительную часть населения города составляют афроамериканцы.
ХХ век дал мировому градостроительству еще один образец строительства столицы в чистом поле — речь идет, конечно же, о городе Бразилиа, спроектированном одним из основополагающих архитекторов «высокого» модернизма Оскаром Нимейером: по мнению Терборна, Бразилиа и сейчас остается самой модернистской из всех построенных с нуля столиц. Несмотря на ее молодость (в этом году столице исполнилось всего 60 лет), в ней так или иначе отражается вся двухвековая история независимости страны. Первая столица независимой Бразилии — Рио-де-Жанейро — с самого начала воспринималась как временная: португальскому королю Жуану VI, бежавшему туда от наполеоновского вторжения, категорически не понравился ее непрезентабельный облик, а затем, уже в республиканский период, у Рио появился мощный экономический конкурент в лице города Сан-Паулу, ставшего главным центром бразильского художественного и архитектурного модернизма.
 Фото: René Burri
Фото: René Burri
Эта конкуренция двух городов привела к тому, что еще в бразильской конституции 1891 года было заявлено о грядущем переносе столицы вглубь страны — едва ли не уникальная для мировых конституций декларация. И вряд ли случайно, что реализовать эту идею удалось в период самого бурного в истории современного капитализма периода экономического роста (в 1956–1961 годах бразильская экономика выросла на невероятные 80 %) — в два послевоенных десятилетия, совпавших с превращением «высокого» модернизма в главный международный стиль.
В то же время Бразилиа продемонстрировала и все негативные стороны этого направления: новая столица определенно не соответствует привычным представлениям о том, что такое город для людей, а по соседству с резиденциями чиновников еще на этапе строительства появились вездесущие латиноамериканские фавелы. Тем не менее Терборн не склонен видеть в Бразилиа исключительно его изнанку, что в определенный момент стало модным среди урбанистов. Спустя полстолетия, считает он, стало ясно, что Бразилиа все-таки оказалась успешным проектом — она превратилась в процветающий город, мощный полюс регионального экономического развития и остается масштабным памятником архитектурного модернизма, но в то же время и образчиком бразильского неравенства.
Третий тип «национальных оснований», который выделяет Терборн, — обращение колониального Модерна против колонизаторов. Этим путем пошли бывшие колониальные страны Южной и Юго-Восточной Азии, арабского мира и Африки, которые обрели независимость уже в ХХ веке. Здесь также было достаточно экспериментов по строительству новых столиц наподобие пакистанского Исламабада или города-сада Лилонгве в Малави, но большинство бывших колоний после получения независимости сохранили в качестве национальных столиц свои сложившиеся колониальные центры.
Дальнейшее развитие этих столиц во многом шло по разным траекториям. Сегодняшний облик таких постколониальных мегаполисов, как африканские столицы Абиджан, Аккра, Дакар, Киншаса, Лагос, Луанда, Найроби и других городов, изначально построенных колонизаторами, заметно отличается от древних городов, ставших колониальными столицами, — Алжира, Туниса, Каира, Дели, Дакки, Ханоя и т. д. У последних были локальные архитектурные и градостроительные традиции, которые не прервала колонизация (к тому же многие страны Азии и арабского мира всегда были относительно однородны в культурном и языковом отношении). Однако и в том, и в другом случае отличительной особенностью оказываются огромные трущобные кварталы, окружающие столицы практически всех стран бывшего «третьего мира». После получения независимости, напоминает Терборн, многие бывшие колонии продолжили идти по капиталистическому пути своих бывших хозяев, и это в сочетании с непрекращающейся миграцией из сельской местности обусловило постоянный рост социального неравенства, сформировавший городскую ткань их столиц.
Наконец, четвертая группа стран и столиц, которую описывает Терборн, охватывает образцы «реактивной модернизации», основанной на успешном сопротивлении ее западной траектории, когда домодерные монархии брали курс на историческое обновление собственными силами и пытались ограждать от атак со стороны империализма. Эти перемены спускались сверху, от определенных групп традиционной элиты, которая только и имела возможности для приобретения достаточных знаний о новых военных, технологических, экономических, политических и культурных задачах, стоящих перед миром, — в качестве наиболее явных примеров такого пути можно привести Китай, Японию, Турцию, Иран и, конечно же, Россию. Все столицы стран, избравших этот путь к Современности, констатирует Терборн, менялись сверху, уже существующими властями, без значительного вклада собственно населения.
 Фото: Heidi Spohel
Фото: Heidi SpohelВ итоге картина итогов двух столетий модернизации в самом деле получается калейдоскопичной — в отличие от середины XIX века, когда перестройка Парижа бароном Османом стала образцом для других столичных городов, сегодня такой магистральной линии нет, полагает Терборн. Текущий глобальный момент лишен аналогичного города-образца, приходит он к выводу в конце книги, хотя ближайшим аналогом Парижа 150-летней давности сегодня, возможно, является Сингапур — главный образец столичного города быстро развивающейся Азии. Но важно уточнить, что даже для азиатских столиц этот пример не универсален. Достаточно вспомнить Пекин, где небоскребы во главе со штаб-квартирой Центрального телевидения КНР авторства Рема Колхаса вынесены на периферию города, а по масштабу они заметно уступают шанхайским.
Луч света в темном царстве капитализма
Предложенная Терборном классификация траекторий развития мировых столиц не является жесткой: в книге указываются и другие параметры, существенно повлиявшие на современный облик столичных городов. Один из них — влияние на градостроительные практики идеологий фашизма и коммунизма, которые Терборн также рассматривает в контексте общественного запроса на догоняющую модернизацию. Такой подход, несомненно, позволяет избавиться от представления о них как о неких аномалиях ХХ века — напротив, это были явления, логично проистекавшие из ситуации, когда модернизация шла на разных скоростях, и тем, кто отставал, приходилось включать форсаж. Что, впрочем, не снимает с повестки вопрос о цене любой попытки «догнать и перегнать» (тем более что Россия, отказавшись от коммунизма, незамедлительно принялась наверстывать упущенное и устремилась к капитализму).
Российский капитализм, констатирует Терборн, стал самым жестоким из всех версий продолжившейся уже в эпоху постмодерна капиталистической модернизации. В то же время сохранялась и траектория реактивной модернизации, по которой Россия двигалась на протяжении без малого трех столетий:
«Несмотря на поставленную цель сделать Москву финансовым центром глобального капитализма, в архитектуре происходило восстановление связей, во-первых, с православной церковью, которая теперь стала особенно заметной частью российской официальной жизни, что выразилось в восстановлении храма Христа Спасителя, некогда разрушенного Сталиным ради строительства Дворца Советов, так и непостроенного, и, во-вторых, с традицией русского монархизма, воплощением чего явилась огромная статуя Петра I, стоящая на бетонном корабле на Москве-реке. Подражание монархии демонстрируют также кремлевские интерьеры и протокол, которые можно часто увидеть по телевизору. Огромная жилая башня „Триумф Палас” в северной части Москвы напоминает о еще одной русской традиции — капиталистическом варианте сталинского реализма — своим сходством с семью высотками 1940-х годов... Топонимика небоскребов Москва-Сити подчеркнуто национальная: башни „Федерация”, башня „Евразия”, комплекс „Город столиц”, отсылающий к двум официальным столицам, Москве и Санкт-Петербургу».
Последние тенденции развития Москвы также прекрасно ложатся в ключевые для современных капиталистических мегаполисов тенденции, описанные в книге Йорана Терборна, хотя «Города власти» в оригинале были изданы еще до начала проекта столичной «реновации». Это начинание полностью соответствует тем стилевым признакам репрезентации власти в городе, которые Терборн выделяет для текущего глобального момента. Вертикальность, новизна и эксклюзивность — именно эти тренды хорошо различимы в массовом переселении москвичей из хрущевок в многоэтажные «собянинки» на окраинах.
Высотность для российского начальства давно стала синонимом современности (молва приписывает столичному мэру утверждение, что пятиэтажка есть не что иное, как поставленный на торец небоскреб). Идея новизны содержится в самом термине «реновация», хотя в московском варианте она не имеет ничего общего с реконструкцией послевоенного массового жилья в Европе. Что же касается эксклюзивности, под которой Терборн понимает разделение города на пространственные сегменты, соответствующие структуре социальной иерархии, то в этом, похоже, и заключается смысл всей затеи. «Неуспешных» жителей старого фонда, потенциальных представителей «опасного класса», которые за три десятилетия капитализма так и не удосужились обзавестись более престижным жильем, желательно переселить на периферию, чтобы затем передать освободившиеся земли под проекты, более соответствующие имиджу глобального города. В этом смысле Москва по-прежнему идет путем барона Османа, ломавшего средневековый Париж и строившего на его месте знаменитые бульвары, только, в отличие от главного градостроителя Наполеона III, во многом вдохновлявшегося идеями передового урбанизма своего времени, в российской столице во главе угла неизменно стоят сугубо материальные интересы строительного бизнеса.
 Вид на Строгино. Фото: Руденко О.Е.
Вид на Строгино. Фото: Руденко О.Е.Превращение современных столиц в витрину неолиберального капитализма, культивирующего социальное неравенство, неизбежно приводит Терборна к рассуждениям на ключевую для левого урбанизма тему — как обычным горожанам вернуть себе право на город?
«Самый сложный вопрос — это будущее простых людей, — признает Терборн в заключительной главе своей книги. — Будет ли у них будущее в мире безжалостного глобального капитализма? Потратив почти всю свою жизнь на политическую борьбу, наблюдения и анализ, я научился не ждать от разнузданного капитализма ничего инклюзивного и эгалитарного, а также понял, что восстания предсказать невозможно: они просто случаются, снова и снова».
Тем не менее он все же находит две причины для умеренного оптимизма относительно перспектив будущих «народных моментов». Первая из них — недавнее возрождение народных городских революций, которые, по прогнозу Терборна, будут случаться снова и снова за пределами стран с бесспорной конституционной и выборной легитимностью (и этот прогноз подтверждают нынешние события в Белоруссии). Однако чуть выше сам он признает, что результаты этих революций могут оказаться едва ли не хуже, чем тот порядок, который привел к их возникновению, анализируя последствия арабских революций 2011 года и двух украинских «майданов»:
«Египет, первый трофей „арабской весны”, вернулся к новому варианту привычного военного авторитаризма. И „оранжевая революция” 2005 года, и Майдан 2014 года привели Украину к сходным режимам, коррумпированным и олигархическим. Страна приблизилась к Европе, но вряд ли к европейскому благосостоянию, а от европейской свободы в некотором смысле даже отдалилась».
Все недавние революции были по своим интенциям и последствиям социально двусмысленными, подчеркивает Терборн, что стало результатом их зависимости от широких разношерстных коалиций, а также от совпадения краткосрочных интересов. Наиболее показательным примером подобных экзотических альянсов Терборн называет именно киевский «евромайдан», где «вместе сошлись самые разные идеологические силы — от либералов, мечтающих о процветании внутри Евросоюза, до оголтелых антирусских националистов и фашистов с нацистами». Признание, весьма нехарактерное для многих западных, да и российских интеллектуалов, по-прежнему идеализирующих события 2014 года.
Второй повод для оптимизма Терборна носит скорее эволюционный, а не революционный характер — речь идет о реальных возможностях городского реформизма. Этот путь, напоминает автор «Городов власти», был инициирован европейским «муниципальным социализмом», однако в последнее время наибольшим напором радикального городского реформизма, нацеленного на социальные изменения, отличались столицы стран глобального Юга — Монтевидео, Мехико, Дели, Джакарта. Это, по мнению Терборна, весьма уязвимый план, зависящий от национальной экономики, к тому же он часто оказывается под давлением враждебного национального правительства и сталкивается с шатким в своих мнениях электоратом мегаполиса, поскольку сегодня устойчивый рабочий класс практически отсутствует.
Но не следует забывать, подчеркивает Терборн в самом конце книги, что в странах бывшего «Третьего мира» достижения городского реформизма — это совершенно новый тренд, и распространение «низовых» проектов развития наподобие тех, что ассоциируются с именем Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который в 2000–2005 годах возглавлял правительство федерального округа Мехико, не кажется совершенно невозможным. К этому предположению Терборна стоит прислушаться как минимум потому, что на момент написания «Городов власти» их автор, конечно же, не мог знать, что в 2018 году Лопес Обрадор на волне антиэлитарных настроений будет избран новым президентом Мексики. Значение этого события вряд ли стоит преувеличивать — приход левых к власти в Латинской Америке в последние годы регулярно оборачивался коррупционными скандалами и очередными несменяемыми режимами, но как минимум один весомый повод для надежды на будущее Терборн нам все же оставляет.