Как сладить с демоном шопинга
Семь современных детских книг, направленных против консьюмеризма
Мы живем в обществе потребления, и этот печальный факт наконец проник даже на страницы детской литературы: маленьким читателям и слушателям полезно будет воспитывать в себе критическое отношение к товарному перепроизводству и отвращение к безудержному шопингу. Специально для «Горького» Наталья Бесхлебная написала про семь детских книг, которые учат не поддаваться соблазнам маркетинга и рекламы.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Девочку преследуют пять миллионов говорящих кукол, «громко хлопая глазами», за ними по земле катятся мячи, едут машинки, и, «как ужи», ползут прыгалки, «путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче». Прячась от этого шествия в подъезд, девочка замечает, что небо заполнено самолетиками и вообще буквально весь город завален игрушками. Не правда ли, похоже на эпизод из левацкого инди-хоррора, критикующего воспитательные практики капитализма? Но, возможно, вы уже узнали сцену из сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик».
Персонажи, учившие маленьких слушателей потреблять с умом, появились отнюдь не сегодня, будь то ненасытная старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» или отец Эмиля из Лённеберги, любивший ходить босиком, чтобы не покупать себе сапоги «без конца», то есть «каждые десять лет». Но дети, которым изначально предназначалась эта литература, жили в совершенно ином мире, где единственная кукла или леденец-петушок по большим праздникам нередко были пределом мечтаний.
Насколько изобретательнее и апокалиптичнее могла бы выглядеть сценка из «Цветика-семицветика», если адаптировать ее к сегодняшнему дню. Пока ворвавшиеся в подъезд вслед за девочкой радужные пружинки «слинки» поднимаются по лестнице, липкие слаймы уже просачиваются в замочную скважину; одновременно под окнами фигурки Лего на глазах собираются в высокую пожарную лестницу и пробираются в квартиру через форточку, а из вытяжного отверстия улыбается Хаги-ваги. Но и в реальности каждый современный ребенок подвергается примерно такому же преследованию, ведь на каждом углу его поджидают соблазны, витрины манят всеми оттенками пластика, а свалки вокруг городов растут как ядерные грибы. Но если книжки об экологическом кризисе и необходимости утилизации отходов сегодня выпускают все продвинутые детские издательства, то о проблеме перепотребления, которая идет рука об руку с мусорной катастрофой, говорить с детьми, кажется, еще только начинают. Неслучайно основная часть книг из нашего обзора появилась лишь в последнюю пару лет.
Беатриче Алеманья. Мечта. М.: Самокат, 2024. Перевод с французского Катерины Шаргиной
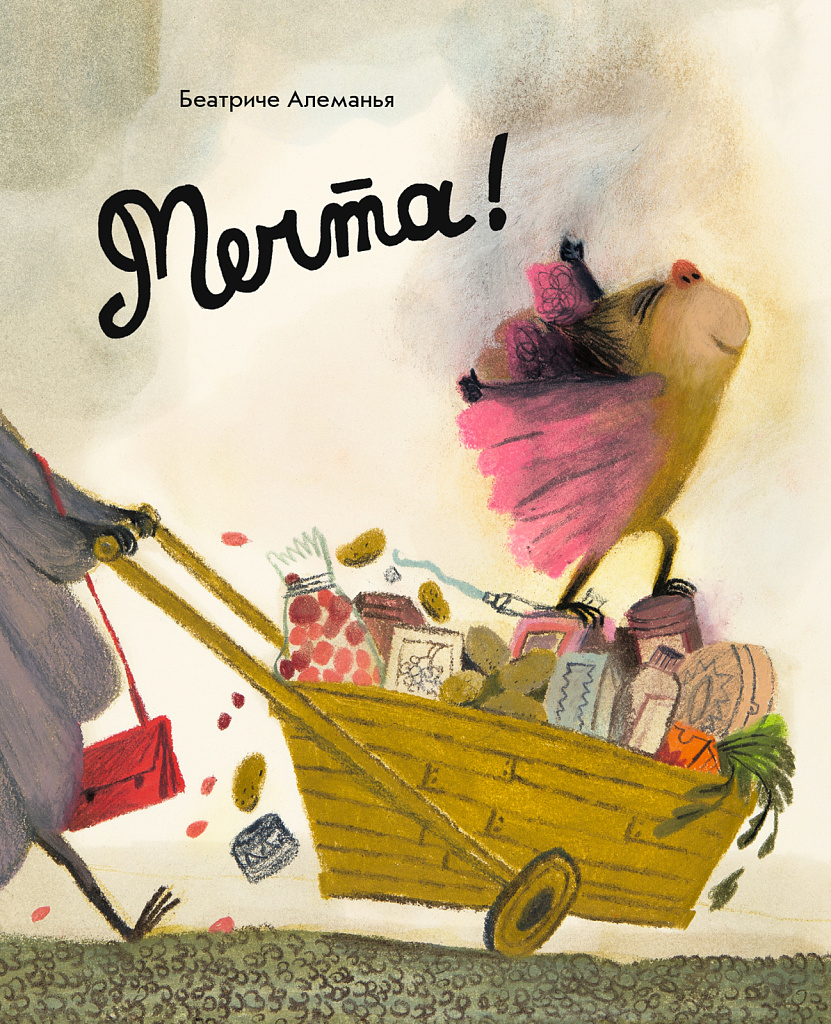
Начнем с образцовой истории, точно попадающей в цель, причем предназначенной для дошкольников — тех, кто особенно чувствителен к ярким рекламным упаковкам и с трудом воспринимает логические доводы. Новая книжка-картинка из серии про летучую мышь Паскалину от одной из самых успешных современных европейских иллюстраторок — Беатриче Алеманьи. Предыдущая из тех, что выходили на русском языке, была посвящена нежеланию крылатой мышки ходить в детский сад, а в этой героиня отправляется в лесной универсам и слетает там с катушек.
К огромному разветвленному дереву с вывеской «Дубмаркет» тянется очередь деревянных тележек. За кассами сидят мышки, в то время как белочки, лягушки и червячки заняты шопингом. Взобравшись на детское сиденье тележки, Паскалина тащит в нее все, до чего может дотянуться: светящийся лак для крыльев, жирные чипсы из сверчков, куклы Барби. Мама отказывается, дочка возмущается, мама говорит, что на все это у нее нет денег, дочка орет и плачет. Алеманья рисует узнаваемую картину детской магазинной истерики, одновременно и умилительно-смешной и страшной. Симпатяга Паскалина совершенно теряет лицо, агрессивно цепляется за маму и не дает ей заниматься покупками. Из комической ситуация превращается в абсурдную фантасмагорию — летучая мышка «растекается в луже слюней», которые обильно испускает, глядя на товары. И тогда пролетающая мимо птица принимает ее за червяка, хватает и уносит прочь. В некотором роде метафорическое воплощение демона шопинга — он сцапает тебя, стоит лишь проявить слабину перед лицом товарного изобилия: крылатый, как античный бог торговли, и банальный, как обыкновенная синица.
Паскалине удается высвободиться из лап птицы — она плюхается в грязь, откуда и начинается ее самостоятельное путешествие, сопровождаемое духовной трансформацией. Летучая мышь ползает вместе с улитками и видит, в какой восторг они приходят от невзрачного листка салата, и это заставляет ее взглянуть на себя со стороны, чтобы слегка пересмотреть собственные ценности. Но у автора хватает вкуса не заканчивать рассказ на патетической ноте — на последней страничке Паскалина вновь просит маму купить ей тапочки-стрекозы.
«И тут Паскалине очень захотелось домой. К маме и папе — пусть у них и совершенно нет вкуса, — но которых ей стало вдруг так не хватать. К тому же пошел снег. Но кто это там?
— Мышонок! Ты здесь!
Паскалина чуть не падает от радости: — МАМА!!! И она тут же снова становится собой.
Она больше не слизняк!»
Людмила Петрушевская. Поросенок Пётр и машина. Иллюстрации Александра Рахштейна. М.: Розовый жираф, 2015
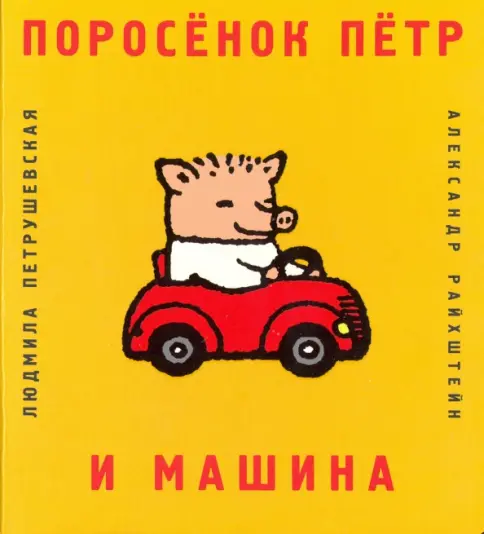
Еще одна история для первого чтения, а также книжка-легенда, созданная двумя знаменитостями на заре новой эры в истории отечественной детской книги. Впервые «Поросенок Пётр» вышел в издательстве «ОГИ» еще в 2002 году, и его сразу же стали любить и ненавидеть: кто-то полагал, что это единственный оригинальный персонаж, созданный российской индустрией детских развлечений со времен Чебурашки и кота Леопольда; другие сочли его оскорблением чувств родителей, верующих исключительно в милых зайчиков и пушистых котят. Коренастый и щетинистый, похожий на незатейливого мужичка без шеи и рефлексии, Пётр уверенно и немедленно вошел в фольклор. В частности, вторая часть серии — «Поросенок едет в гости», где машинка становилась трактором, — была разобрана на мемы про эмиграцию.
Но своей популярностью поросенок Пётр обязан не только визуальному образу — содержание книги на тот момент тоже было довольно революционным для постсоветского пространства. Сверхкороткая и сверхпростая история, которую можно читать и годовалому ребенку: в ней не происходит ничего, кроме одной воображаемой поездки на машинке, звука «Трр-р! Би-би» и восторга. Ни тебе рифмованной мудрости, ни просветительской риторики — только игра, фантазия и стиль.
И все же кое-какая мораль в этой книжке прячется, но адресована она скорее взрослым. Поросенок Пётр совершенно не нуждается в покупных игрушках, а их отсутствие лишь стимулирует его развитие. В качестве руля для воображаемой машинки он приспосабливает крышку от кастрюли. Людмила Петрушевская не раз поясняла, что это и было главным посылом автора: нет лучшего развлечения для маленького ребенка, чем обычная кухонная утварь, попавшаяся под руку, а покупать всякую ерунду совершенно не обязательно. В следующих частях серии авторы остаются верны своему антиконсьюмеристскому зачину: поросенок строит башни из песка, совершая с них воображаемые полеты, а также занимается натуральным обменом зеленых листиков на каменные конфеты.
«Жил-был поросенок Пётр. Он решил построить машину.
Для такого дела поросенок Пётр пошел в комнату и сел там на стул. Но потом поросенок Пётр понял, что чего-то не хватает».
Гиймет Фор. Не дай себя обмануть. Гид разумного покупателя в комиксах. Иллюстрации Адриена Бармана. М.: Пешком в историю, 2025. Перевод с французского Анастасии Шишовой
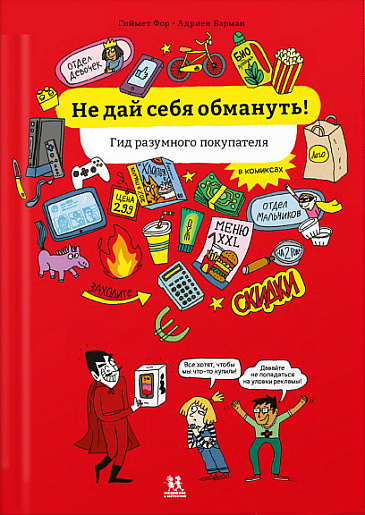
Новинка этого года, целиком и полностью посвященная развенчанию различных маркетинговых трюков, а также аберраций сознания, заставляющих желать еще одну игрушку, когда у тебя их и так уже миллион. Находка для тех родителей, чьи дети склонны к магазинным истерикам в духе Паскалины.
Некогда владелец лавочки — убеленный сединой Господин Бонус, чей бизнес прогорел из-за больших магазинов и маркетплейсов, — рассказывает героям историю массового потребления, начавшегося в 1950-е, когда люди бросились покупать вещи «после скудной жизни и ограничений военного времени». Тут, конечно, потребуется некоторый комментарий, адаптирующий западную жизнь к советско-российским реалиям, но в целом все узнаваемо. Затем излагаются занимательные факты о развитии рекламы — о дизайне бутылок кока-колы и «киндер-сюрпризов» в форме яиц; о мультяшных персонажах, рекламировавших шоколадный напиток «Несквик»; о компании «Хайенс», впервые придумавшей разливать кетчуп не в стеклянные, а в пластиковые упаковки, после чего «потребление кетчупа в семьях с детьми младше 5 лет выросло на 50 процентов». И так далее, вплоть до наших дней, так что последние главы посвящены гринвошингу и гендерному маркетингу.
На иллюстрированной схеме супермаркета видно, что он устроен как лабиринт: придя за чем-нибудь простым вроде туалетной бумаги, покупатель, чтобы выбраться целым и невредимым, должен преодолеть множество препятствий. При этом игрушки вынимают из коробок и размещают на нижних полках стеллажей — так, чтобы тоддлер сам мог их схватить. Там же лежат и самые вредные, пересыпанные сахаром сладости, а диетические мюсли — наверху, на уровне глаз взрослых. Даже тележки существуют вовсе не для удобства, а для того, чтобы покупатель поддался подсознательному желанию заполнить их обширную пустоту.
Изложив все это, Господин Бонус сообщает, что придумал идею для нового бизнеса — открыть на месте своего магазинчика «Музей антипотребления», где будут представлены «бесплатные бесполезные игрушки из Хэппи-мила», «дешевая приставка для очень дорогих игр», «спиннер, который не вращается с 2017 года» и прочие обманные чудеса.

Валя Филиппенко. 20 подарков на Новый год. Иллюстрации Никиты Терешина. М.: Альпина, 2024
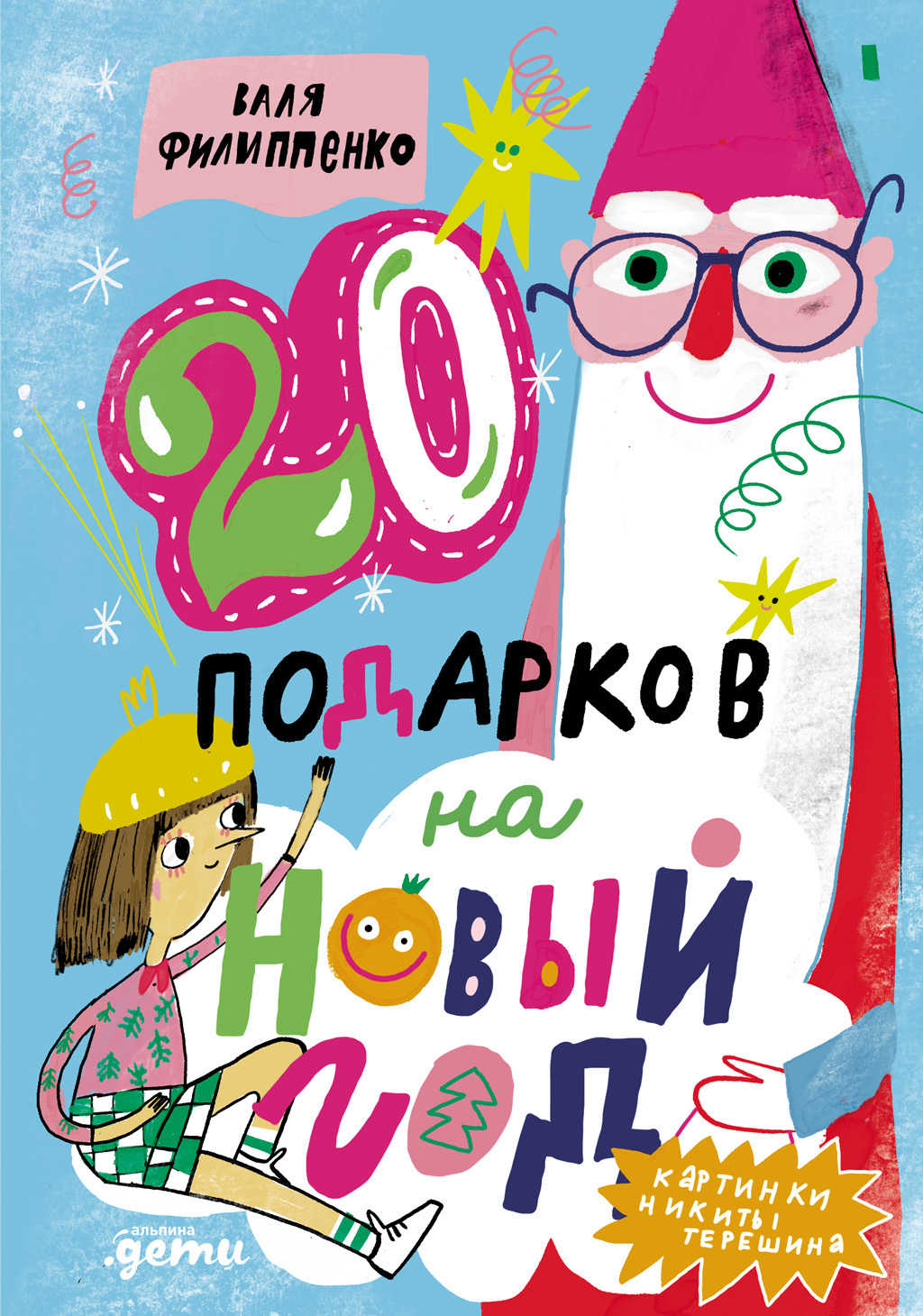
Перед нами целая повесть, посвященная попытке объяснить тщету длинных списков подарков, которые современные дети составляют к Новому году. Сюжет — нечто среднее между святочным рассказом и концепцией фильма «День сурка». Девочка Нина застревает в 1 января, каждое утро получая один из пунктов своего списка: палатку-вигвам, фотоаппарат для моментальных фото, дневник в виде мягкой игрушки с кодовым замком, а также колечко, самокат, куклу и мн. др. Новый день отличается от предыдущего лишь некоторыми деталями, но начинается и заканчивается одинаково. Семья занимается блаженным бездельем и намеревается не вылезать из мягких халатов, погрузившись в классические уютные каникулы. Однако ближе к вечеру маму Нины, которая работает ветеринаром, экстренно вызывают к заболевшей кошке. Возвращается мама поздно и очень грустная — кошка, очевидно, умерла. Так повторяется раз за разом, до тех пор пока девочка не направляет усилия на спасение кошки вместо того, чтобы сосредотачиваться на своем вещизме.
В отличие от Паскалины, которой приходится преодолевать трудности, чтобы догадаться о том, что торговый центр — это лишь эрзац мечты, Нина просто становится махровой гедонисткой и на протяжении почти всей повести погрязает в своих игрушечных пороках, вовсю наслаждаясь каждым следующим подарком. Валяется с мамой и папой в вигваме; разбивает шар с предсказаниями; пробует все возможные режимы и вкусы сахарной ваты; забрызгивает новыми духами все вокруг, включая снег. Девочка перестает обращать внимание на события внешней жизни: какие слова произносят ее родители и бабушка, что они делают (этот спектакль она выучила наизусть), и, по сути дела, кроме подарков ее больше ничего не интересует.
А еще Нина разбила фамильные елочные игрушки, а еще скрывает от мамы тройку по математике, то есть «вела себя плохо», не так, как нужно, чтобы заслужить подарки от Деда Мороза. Вообще, в повести много эдакой старомодной морали — например, чувства вины, которое сопровождает девочку на протяжении ее вечного Нового года. «Неправильные» поступки и стыд за них являются движущим элементом истории: надо склеить игрушки, научиться не перебивать взрослых, признаться в своих проступках и, главное, прекратить зацикливаться на подарках. Как будто в желании иметь телескоп или набор пастелей в 100 цветов действительно есть что-то греховное. Тогда как про то, почему человеку на самом деле хочется всего и сразу, в книге ничего не говорится.
«Самокат, беспроводные наушники, настольная игра, духи, копилка, пижама с датчиками температуры, колечко, термокружка, фотоаппарат и часы… По утрам Нина ставила галочки напротив новых пунктов в списке, а вечером, перед сном, — прощалась с подарками. На самокате, как и на роликах, Нина каталась по квартире и подъезду, но до торгового центра, где она могла бы повеселиться со своим подарком вовсю, с родителями они так и не доехали. Картриджа в фотоаппарате хватило на портреты родителей, снеговика, три „селфи“ и снимок списка подарков, который висел над Нининым столом. Пижаму Нина надела сразу, чтобы хотя бы день так походить, — и в ней поехала к бабушке, надев сверху тот самый „медицинский“ халат из набора юного химика. И показывала, как у неё повысится температура, если спрятать кружку с горячим чаем под пижаму».
Франсуаза Саган. Муравьиха и Кузнечик. Иллюстрации Жан-Батиста Друо. М.: Эксмо, 2010. Перевод с французского Юрия Кушака
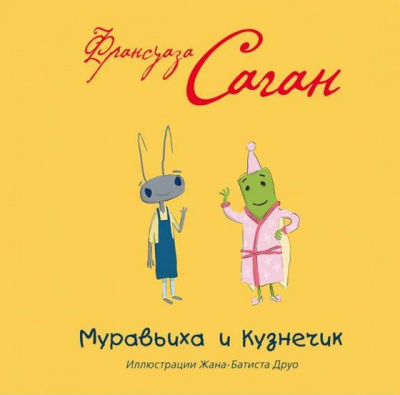
Эта книга — сиквел басни Лафонтена «Цикада и Муравей», известный у нас в переложении Крылова, заменившего цикаду на стрекозу. Зима прошла, но тут проблемы начались у Муравья — у него скопилось слишком много всяческих запасов: коробки с «мушками домашней сушки», «личинки» — «для нежных бисквитов начинки» и прочего. Только в русском переводе на этот раз фигурирует не Муравей, а Муравьиха, а Цикада заменена на Кузнечика.
Итак, беззаботный Кузнечик как-то перезимовал, и теперь Муравьиха умоляет его купить у нее в рассрочку хоть что-нибудь из накопленного добра, поскольку девать его некуда, а деньги вложены. Кузнечик, конечно, отказывается — ему все это не нужно.
Франсуаза Саган известна своими книгами про депрессивных прожигателей жизни, а также скандалами, в которых фигурировали любовные похождения, наркотики, азартные игры, уход от налогов и другие авантюры. Завершающим штрихом к этому сходству со Стрекозой можно назвать бедность, постигшую писательницу в конце жизни. Но вариация басни от Саган — не просто ответ Лафонтену или протест против чрезмерной рассудочности и скупости. Текст написан в 1980-е и отчетливо осуждает философию потребления, дискуссия о которой велась во Франции после выхода трудов Бодрийяра.
В целом имитируя старинный стиль Лафонтена, Саган вставляет в свой текст актуальное словечко solder, что значит «продавать со скидкой». Кузнечик отвечает Муравьихе предложением устроить распродажу. Сравните: у Лафонтена — «Вы пели? Я очень рад! Что ж, теперь пляшите!» (Vous chantiez? J`ensuis fort aise. / Eh bien! dansez maintenant); у Саган — «Вы запасали? Я очень рад! Что ж, теперь распродавайте! (Vous stockiez? j`en sius fort aise / Eh bien! soldez maintenant). В переводе Юрия Кушака эта зеркальность несколько теряется, однако тему презрения к товарам и любителям скидок подчеркивают иллюстрации. Пока Кузнечик весело и беззаботно танцует под музыку, льющуюся из граммофона, Муравьиха вынуждена превратить свой дом в большой магазин и уныло стоять в ожидании покупателей у надписи «скидки». Для Саган консьюмеристское сознание присуще обывателю, мелочному и недалекому существу, не понимающему истинных радостей жизни.
«Говорит Муравьиха:
Исключительно вас уважая,
доставлю провизии вам,
чтоб хватило до нового урожая,
А вы, — продолжала благостно, —
заплатите мне после августа,
плюс десяток процентов, не больше —
мы же оба создания божьи…»
Магдалена Рутова. Я, Осьминожка. М.: Белая ворона, 2025. Перевод с чешского Ксении Тименчик
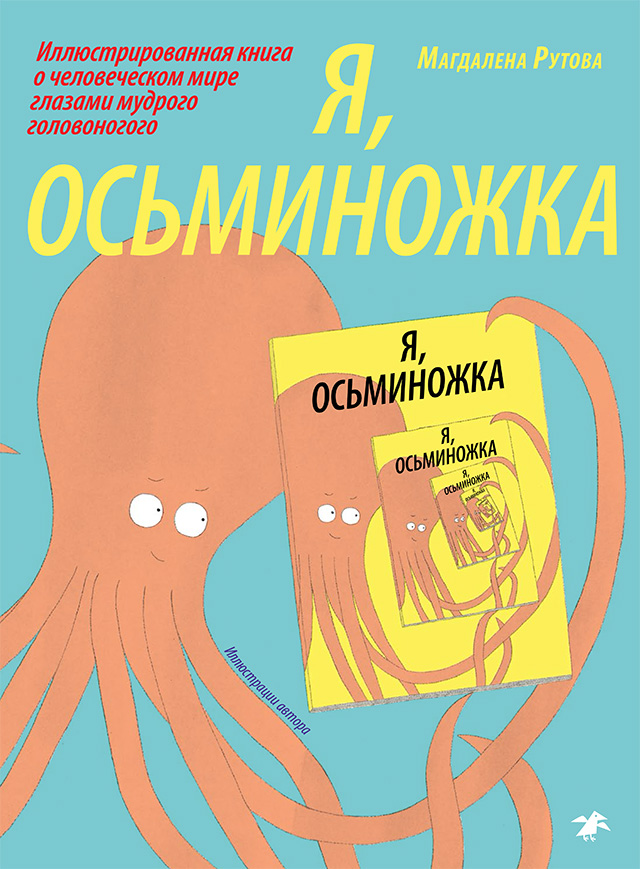
Изображение загрязнения океанских вод глазами морских животных — уже практически отдельный жанр, в нем выдержана, например, прекрасная книга «Мусорный остров» корейского автора Ли Мёне, рассказывающая о красивейшем ту́пике, живущем на уродливой груде пластика. История о молодом осьминоге от Магдалены Рутовой начинается похоже: животное рассказывает, что на дне просто негде развернуться, так как оно заполнено рыбацкими сетями, пластиковыми карточками, сломанными мобильниками, зубными щетками, автокреслами… Однако дальше перед нами разворачивается остроумная постгуманистическая фантазия. Осьминожка увлеченно изучает попадающиеся ей предметы, пытаясь представить себе, как живут люди и почему они кидают все это в океан. «Они хотят нам этим что-то сказать? Или поднять наш уровень жизни? Или они сошли с ума?»
Научившись читать по этикеткам и обрывкам журналов, Осьминожка решает написать книгу о людях и, чтобы все разузнать, отправляется путешествовать по суше. Но оказывается, что и там повсюду разбросаны кучи ненужных вещей. Осьминожка сооружает себе из них высокий дом-башню, чтобы стать городской жительницей. Это оказывается не так-то просто: представители рода Homo Sapiens, как они называют сами себя, на деле далеко не так разумны, как думала Осьминожка. Из-за того что люди часто ведут себя злобно и нелепо, она постоянно попадает в истории. Но главное — супермаркеты. Туда все время тянет, а там невозможно принять решение, и, точно у Паскалины, у Осьминожки постоянно текут слюнки. Она толкает своими щупальцами сразу несколько тележек и постоянно тревожится, что выбрать, какой продукт окажется вкуснее, хватит ли ей столько покупок или надо набрать еще.
В конце концов Осьминожка устраивает в своем доме настоящий сквот, где может заночевать каждый, у кого нет своего жилья. Гости всех сортов и возрастов помогают хозяйке не чувствовать себя одинокой, а также — опустошать вечно переполненный холодильник. По вечерам они разводят перед домом костер, рассказывают друг другу истории, поют песни и играют с детьми. И хотя Осьминожка фантазирует, что когда-нибудь на Земле появятся более совершенные существа, которые наведут тут порядок, она понимает, что полюбила людей. А книга, которую мы держим в руках, и есть результат ее труда и воплощенная мечта.
Надо сказать, что у этой книги очень большой формат — почти 40 на 30 сантиметров. Возможно, издатели выбрали такой размер, чтобы подчеркнуть, что она необычна, поскольку написана осьминогом. Но учитывая, что история критикует страсть человека к обладанию вещами, выглядит это немного противоречиво — так и представляешь себе обложку с нарисованными осьминогами, плавающую в океане на удивление осьминогам живым.
«И вот однажды к вечеру, когда на небе не было ни облачка, я наконец-то решилась вылезти из воды. Я подождала, пока капитан выйдет на палубу, незаметно встала рядом с ним, посмотрела вдаль на открытое море и вдруг поняла, что сказать.
— Капитан, недавно я прочла в энциклопедии, что Земля круглая. Вы верите в такую ерунду?
Разумеется, я сама знала, что Земля круглая, каждый это знает. Но мне не хотелось задавать слишком заумные вопросы, чтобы его не спугнуть.
Но капитан все равно испугался. Он повернулся ко мне, отскочил в сторону и замахал руками так, что стаканчик с кофе и телефон плюхнулись за борт. «Ага… — пронеслось у меня в голове. — Еще один телефон под водой». Неужели это решение загадки, почему на дне моря столько вещей? Просто каждый раз, когда люди пугаются, они что-то бросают в воду?»
Джованна Дзоболи. Суп синьора Лепрона. Иллюстрации Марикьяры ди Джоржио. М.: Городец, 2022. Перевод с итальянского Веры Федорук
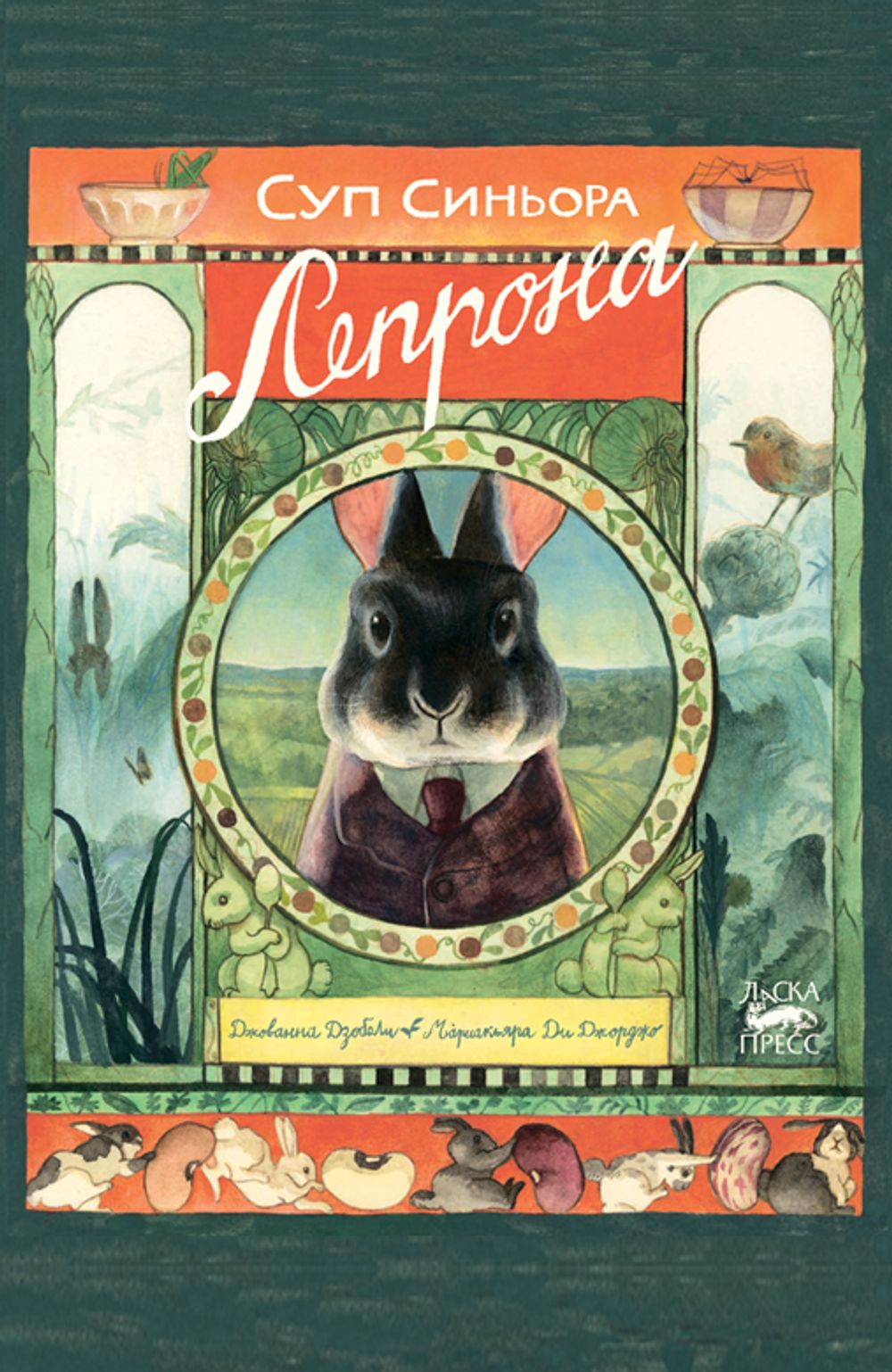
История о том, как заяц открыл фабрику по производству супа, на первый взгляд кажется такой же неочевидной, как и сказка про Поросенка, крутившего крышку от кастрюли. Однако, как подсказывают иллюстрации к книге Джованны Дзоболи, суп «Лепрон» — это практически суп «Кэмбэлл», увековеченный Энди Уорхолом. И хотя искусствоведы не единодушны в том, критиковал ли Уорхол массовое потребление или, напротив, воспевал повседневность, подобные аллюзии не позволяют сомневаться, что и сеньору Лепрону придется столкнуться с противоречиями капитализма.
До того как растиражировать свой суп на весь мир, заяц варил его всего раз в год. Приготовление блюда было чем-то вроде религиозного ритуала, на обед собиралась вся большая заячья семья и многочисленные гости. Суп выходил отменным, и все считали, что повар владеет каким-то особым секретом, хотя Лепрон обладал самыми обычными для зайца знаниями о том, где собирать «стрелки чеснока», «чубчики сельдерея», «пряные травы в цвету», «разные виды салата», «кудрявую капусту», «великолепную тыкву». Поначалу и заводской суп, разлитый по консервным банкам, тоже очень всем понравился, и это превратило зайца в продуктового магната. Компания «Лепрон», подобно компании «Кэмпбэлл», принялась разрабатывать множество вариантов своего супа, и вскоре ее продукцией были уставлены магазины по всему свету. Но очень быстро покупатели стали замечать, что товар зайца уже не так хорош, как раньше.
Работы Уорхола — не единственная художественная аллюзия, которую можно найти в «Супе синьора Лепрона». Изумительно детальные и в чем-то таинственные иллюстрации Марикьяры ди Джорджио отсылают читателя к эпохе модерна, а обложка — к плакатам Альфонса Мухи. Книга проиллюстрирована в винтажном ключе и как будто проводит нас через историю расцвета рыночной экономики — от начала индустриализации и зарождения маркетинговых стратегий рубежа XIX-XX веков к осознанию пагубных сторон бесконтрольного потребления во второй половине прошлого столетия. Общество больше не желает есть консервированный суп, оно мечтает о возвращении в фермерский рай. Компания «Кэмбелл» в XXI веке декларирует переход к экологичным продуктам, а наш заяц бросает массовое производство и возвращается к таинству приготовления домашнего супа в отдельной кастрюле не чаще раза в год. Так что главная идея книги — вкусно и хорошо бывает не тогда, когда у тебя в любой момент под рукой имеются все лакомства мира, а когда ты умеешь потребляешь умеренно и неспешно.
«Всем нужен суп „Лепрон“ — натуральный и полезный, вкусный и изысканный, его готовы есть даже дети (которые вообще-то не особенно любят супы). Каждый вечер синьор Лепрон, положив соль в кастрюли с супом, сладко засыпает, и ему начинают сниться сны. Ему снятся короли и королевы, которые вкушают на пирах его свекольный суп — и тоже становятся лиловыми. Ему снится крылатый конь Пегас, который приносит суп на небо. И синьор Лепрон слышит, как на небесах Зевс, Гера и другие олимпийские боги обсуждают, что такого вкусного супа они никогда не едали, и тут же начинают паковать чемоданы, чтобы посетить фабрику „Лепрон“, там внизу, среди деревьев, и приказывают Аполлону запрячь колесницу, чтобы как можно быстрее прибыть на Землю.
А потом, на следующий день, синьору Лепрону снится, что море стало супом и в нем плавают странные рыбы, а потом — что в супе купаются ведьмы и их кожа становится красивой и гладкой.
А еще через день ему снится, что суп убегает из кастрюль и начинает заливать лес, и там образуется большое болото, которое обитатели называют Овощным и из которого убегают все лягушки, а на их место приходят ужасные суповые обжоры, и они весь день лежат на берегу и бездельничают, а с рук у них свисают ложки».