Как разговаривать с людьми, если ты белый мужчина?
Самые заметные книги недели — выбор «Горького»
Бертольд Брехт. Теория эпического театра. М.: Академический проект. 2019. Перевод с немецкого С. Апта, М. Вершининой, А. Голембы и других. Содержание
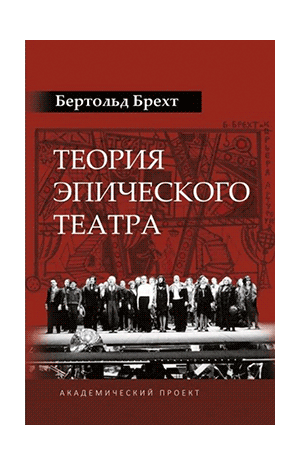 Тексты Бертольда Брехта представлены на русском стихами и пьесами. Теоретические же работы режиссера, который перепахал в XX веке театр, централизованно не издавались. «Академический проект» эту лакуну ликвидирует.
Тексты Бертольда Брехта представлены на русском стихами и пьесами. Теоретические же работы режиссера, который перепахал в XX веке театр, централизованно не издавались. «Академический проект» эту лакуну ликвидирует.
Нагляднее всего поход лауреата сталинской премии раскрывается в противопоставлении методам и теориям Константина Станиславского (анализу этого «врага» Брехт посвящает несколько текстов). Если Константин Сергеевич требовал от актеров психологического погружения в роль, искреннего проживания персонажа с конечной целью заставить зрителя поверить в «правду образа», то Брехт придерживался полярных принципов. Зрителя следует не баюкать в театральном мороке, не убеждать, что на сцене все «на самом деле», но, напротив, разбудить и заставить задаться вопросом, а что же происходит — в жизни и вокруг (и что с этим делать?). Отсюда — отсутствие костюмов, негаснущие лампы, выходы актеров из роли, вовлечение зрителей и прочие «остраняющие» решения.
Обнажающий противоречия, неудобный постольку, поскольку не стремится нравиться, театр Брехта фундирован, конечно, марксистскими идеями (помимо автора «Капитала» своим важнейшим инспиратором он называл Чаплина), хотя прямые ссылки и цитаты найти трудно. Но и без них работает: страстные страницы «Теории» имеют будоражащее свойство. Представьте, что вы нашли в лесу некий топор и вас обуревает жгучее желание его скорее применить.
И тут что-то похожее.
«В. Говорят, Станиславский часто кричал актеру во время репетиции из зрительного зала: „Не верю!” Вы тоже часто не верите актерам?
Б.: Бывает, но не слишком часто. В большинстве случаев только начинающим и рутинерам. Чаще случается, что я не верю событию, то есть части фабулы А кроме того, это значило бы утомлять и себя, и актеров. И если уж так трудно отыскать правду или, вернее было бы сказать, так легко ей повредить, то еще труднее отыскать общественно полезную правда, если она не знает, как за нее взяться? Может быть, и правда, что муж, бьющий жену либо теряет, либо приобретает ее, но стоит ли нам поэтому избивать своих жен, чтобы их приобрести или потерять? Долгое время публику кормили такими истинами, которые не намного дороже лжи и значительно дешевле фантастических выдумок».
Евгений Соловьев (Андреевич). Опыт философии русской литературы. Избранные труды. М.: Модест Колеров, 2020. Cодержание
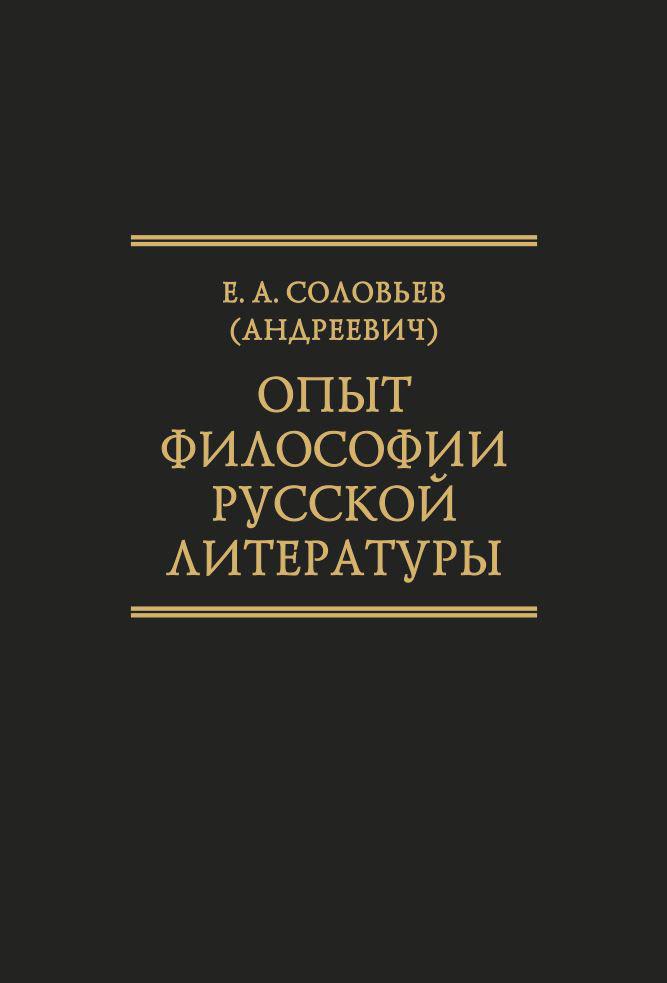 Издательство русского историка Модеста Колерова выносит на свет забытые имена: на этот раз литературный критик Евгений Соловьев (1867—1905) — человек, судя по всему, порывистый, умерший рано, не слишком жалованный современниками и канувший в Лету, не оставив следов в учебниках .
Издательство русского историка Модеста Колерова выносит на свет забытые имена: на этот раз литературный критик Евгений Соловьев (1867—1905) — человек, судя по всему, порывистый, умерший рано, не слишком жалованный современниками и канувший в Лету, не оставив следов в учебниках .
Зачем помнить о Соловьеве, или, как его называют по одному из псевдонимов, Соловьеве-Андреевиче? Если говорить сжато, Соловьев изобрел характерные ходы марксистской критики литературы, которые в Советской России стали общим местом, хотя первенство Евгения Андреевича в их применении известно лишь специалистам.
Перелопачивая русскую литературу XIX века, за пределы которой он не успел выбраться, Соловьев предложил ее периодизацию на основании этапов развития освободительной мысли — от гуманистического идеализма 1840-х к народничеству 1870-х; впоследствии этот ход с огрублением воспроизвел Ленин в статье «Памяти Герцена». Основным же нервом всего столетия публицист полагал идею «святости человеческой жизни», которая постепенно обретает свою полноту в «борьбе за пролетария», который воплощает в себе «человека вообще».
За что же «свои» предали Соловьева забвению? Он не разделял идею первичности класса; для него первостепенное значение играло высвобождение личного начала, за что Чуковский язвил: дескать, критик всюду видит «борьбу партикулярной фуражки с кокардой». Но тот же Корней Иванович говорил, что метод покойного коллеги оригинален и смел, а книги его оклеветаны. Поскольку клевету никто тоже не помнит, можно ознакомиться с ее предметом без предубеждений.
«Отказ от своего привилегированного общественного положения, вызванный муками возмущенной совести, вы слышите и у Радищева, и у декабристов, и у Лермонтова, и чем дальше, тем больше и яснее. Лермонтов не дорожит ни славой, купленною кровью, ни полным гордого доверия покоем, хотя очевидно, что на этих двух устоях зиждились привилегии его и близких ему людей. Проследите дальше борьбу с крепостным правом, вспомните „ганнибаловскую клятву” Тургенева, скорбь Герцена, негодование Щедрина весь первый период нашего народничества и вы увидите, что голос совести тут слышнее всего. Лучшие люди нашего старого барства не только усердно, но и вдохновенно, с фанатизмом иконоборцев подрубали тот сук, на котором сами они сидели. Это действительно оригинальное и красивое зрелище. в 60-е годы совесть была до некоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня крепостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышнее, и еще напряженнее. Тут перед нами на первом плане один из самых красивых, хотя и болезненных русских типов — тип кающегося дворянина. Тут — голос совести, встревоженной воспоминаниями о неправде предков, тут бескорыстнейшее благородство, тут надрыв души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожания, то презиравшей себя всей полнотой презрения».
Клиффорд Гирц. Постфактум. Две страны, четыре десятилетия, один антрополог. М.: НЛО, 2020. Перевод с английского Андрея Корбута. Содержание
 Один из ключевых антропологов XX века Клиффорд Гирц придумал интерпретативную антропологию — во многом в качестве ответа на структуралистские идеи патриарха дисциплины Клода Леви-Стросса. Для Гирца структурализм уделял слишком много внимания и значения семиотическим оппозициям культуры и слишком мало — акторам, которые этими оппозициями оперируют.
Один из ключевых антропологов XX века Клиффорд Гирц придумал интерпретативную антропологию — во многом в качестве ответа на структуралистские идеи патриарха дисциплины Клода Леви-Стросса. Для Гирца структурализм уделял слишком много внимания и значения семиотическим оппозициям культуры и слишком мало — акторам, которые этими оппозициями оперируют.
Опираясь на понимающую социологию Вебера, Гирц выдал знаменитую формулировку, согласно которой «человек — это животное, висящее на сотканной им самим паутине смыслов»; далее — «я принимаю культуру за эту паутину, а ее анализ — за дело науки не экспериментальной, занятой поисками законов, но интерпретативной, занятой поисками значений». Для работы интерпретации требуется особый инструмент — плотное описание, которое включает не только наблюдаемое поведение, но и контекст, в котором оно происходит.
«Постфактум» — это результат применения 69-летним Гирцем своей методологии к личной истории. Захватывающая демонстрация того, как сам наблюдатель вкладывает (постфактум!) смысл в переменчивость житейских и глобальных ситуаций, собственную жизнь и роль исследователя. Правда, выводы, к которым в процессе приходит мудрый странник (сама по себе пленительная ролевая модель для тех, кто мечтает связать будущее с гуманитарными дисциплинами), вероятно, стоит засекретить от первокурсников.
«Прошлое не может помочь предсказать будущее, сколь бы убедительным, многообещающим или зловещим оно ни казалось; очень вероятное часто не сбывается, совершенно неожиданные вещи часто происходят. Вы не можете — по крайней мере на мой взгляд — вывести из него законы, применимые ко всем социальным процессам, железные неотвратимости, которые дают измеримые результаты, хотя попытки сделать это столь же бесконечны, сколь и тщетны. И вы не можете — или опять же по крайней мере я не могу — найти в нем вечные истины, которые бы позволили решить проблемы повседневного существования или покончить с парадоксами социального поведения; нет никакого большого сюжета. Практически единственная польза от прошлого (помимо того простого факта, что оно проживается людьми, — что, может быть, и есть самое главное) заключается в том, что оно позволяет смотреть на происходящее вокруг чуть менее беспомощно и в конечном счете реагировать на то, что открывается взгляду, чуть более осмысленно».
Александр фон Шенбург. Искусство стильной беседы. М.: Текст, 2020. Перевод с немецкого Елены Зись. Содержание
 Издательская аннотация сообщает, что автор — немецкий граф, принадлежит к древнему роду, есть родовой замок в Тюрингии и жена принцесса Гессенская Ирина; пишет для Vogue и Esquire, сочиняет книги c названиями вроде «Искусство бросить курить, не испортив отношения». На первый взгляд складывается скверное бинго: таких бы за уши да на мороз, но не станем спешить.
Издательская аннотация сообщает, что автор — немецкий граф, принадлежит к древнему роду, есть родовой замок в Тюрингии и жена принцесса Гессенская Ирина; пишет для Vogue и Esquire, сочиняет книги c названиями вроде «Искусство бросить курить, не испортив отношения». На первый взгляд складывается скверное бинго: таких бы за уши да на мороз, но не станем спешить.
«Искусство стильной беседы» вполне соответствует заявленной задаче — служить если не путеводителем, то развлекательным справочным материалом для участия в светской беседе, где главный грех — «скука», т. е. по существу — в ритуалах социального груминга, служащего определению и переопределению своих и чужих позиций в поле взаимного признания. Сюжеты для обсуждения «в обществе» делятся на три типа: общие — на любой случай, шутливые — для отвлечения и маневров, «хлороформирующие» — для усыпления визави.
И тут начинается интересное: собственно, то, что говорит автор как представитель определенной социальной категории — той самой, что с придыханием описана в аннотации и переживает сложные времена. Это голос белого гетеросексуального западноевропейского мужчины (список привилегий не учтен и до середины), сформировавшийся в конец прошлого тысячелетия. Он наблюдает крушение «здравого смысла», передел упомянутого поля. Он беднеет, перестраивается и не теряет чувства юмора — впрочем, в отсутствие какой-либо комментаторской работы редактора и переводчика графские шутки остаются для русского читателя на 80% герметичными.
Если читать рассуждения фон Шенбурга о гендере, гомосексуальности, цыганах и североамериканской внешней политике именно в такой перспективе, становится по-настоящему любопытно.
«Вот еще одна, последняя, тема, которая без сомнения может нарушить любое уютное собрание людей. Уже одно только упоминание слова „цыган” гарантирует вам в изысканном обществе возмущенную реакцию, от наморщенного лба до обидного замечания. Но если вы хорошо подготовлены, можно без страха взять дискурс на себя, а потом, с триумфом, под изумленные взгляды вам вслед, пройти к горячему буфету. Для этого надо прежде всего знать, что невежественно и оскорбительно заменять это слово выражением „синти и рома” (две западные ветви цыган), потому что это исключает такие цыганские племена, как лаллери, кале и хорахане; я назвал только три из многих цыганских племен. И потому, что большинство синти, уже в нескольких поколениях живущих в Германии и хорошо здесь адаптировавшихся, не любят, когда их называют в одном ряду с юго-восточно-европейскими рома (...) „Неуважительно называть представителей синти цыганами, раз они не хотят, чтобы их так называли. Но называть понятие «цыган» само по себе унизительным — это уже настоящее оскорбление”».
Эмма Льюис. Измы. Как понимать фотографию. М.: Ad Marginem, 2020. Перевод с английского Игоря Булатовского. Содержание
 Ad Marginem продолжает переводить серию Isms, в которую входят доходчивые путеводители по истории искусств и смежных художественных явлений (дизайн одежды, архитектура и т. п.). Автор, ассистирующий куратор в Tate Modern, разбирает по косточкам эволюцию фотографии, стартуя с ранних экспериментов 1820-х и заканчивая эпохой Инстаграма 2010-х.
Ad Marginem продолжает переводить серию Isms, в которую входят доходчивые путеводители по истории искусств и смежных художественных явлений (дизайн одежды, архитектура и т. п.). Автор, ассистирующий куратор в Tate Modern, разбирает по косточкам эволюцию фотографии, стартуя с ранних экспериментов 1820-х и заканчивая эпохой Инстаграма 2010-х.
Специфика ракурса Льюис — в акценте на стили, направления и концепты, что задает порядок изложению: пикториализм, футуризм, сюрреализм etc. Материал организован дробно, прошит регулярной структурой, расписан просто и снабжен массой иллюстраций — т. е. годится для употребления на бегу, перед посещением музея в отпуске и просто для общего образования, особенно если вы (как и я) страдаете неустойчивостью внимания.
«До „Новой топографии” пейзажная традиция в американской фотографии главным образом сводилась к возвышенным видам в духе исследовательских фотографий XIX века и трансцедентальным снимкам модернистов Энела Адамса, Эдварда Уэстона и Майнора Уайта. Благодаря выставке эти мифические идеалы были развенчаны, и место завораживающих видов природы заняли снимки скоростных автострад, заводов, складов, трейлерных парков и однообразных домов типовой пригородной застройки».