Как перестать платить пенсии и отказаться от налогов
Рецензия на книгу Вито Танци — экономиста, много лет работавшего в МВФ
Книга бывшего функционера МВФ Вито Танци «Правительство и рынки: меняющаяся экономическая роль государства», опубликованная в оригинале еще в 2011 году, вышла на русском в подходящий момент — в разгар дискуссий о повышении пенсионного возраста. На первый взгляд, автор — убежденный противник социального государства, но не стоит считать его догматичным борцом за невидимую руку свободного рынка: в книге Танци гораздо больше вопросов, чем ответов. По просьбе «Горького» об этой работе рассказывает Николай Проценко.
Для отечественного читателя книга «Правительство и рынки» станет, по большому счету, первым знакомством с работами Вито Танци, чье имя в России до сих пор было известно главным образом узким специалистам в области государственных финансов. Еще в конце 1970-х годов в исследованиях этого итальянского экономиста был впервые теоретически описан так называемый эффект Танци — сознательное поведение налогоплательщиков, затягивающих сроки уплаты налогов в бюджет в ситуации растущей инфляции, которая поедает реальную стоимость денег. В то время Танци, родившийся в 1935 году в городке Мола-ди-Бари в Апулии, был уже довольно крупной фигурой в МВФ — руководителем отдела налоговой политики фонда. Начиная с 1981 года два десятилетия он возглавлял в МВФ Управление по бюджетным вопросам, то есть имел прямой доступ к государственным финансам большинства стран мира. Наконец, в начале прошлого десятилетия Танци, уже достигнув среднеевропейского пенсионного возраста, отдал долг исторической родине, отработав пару лет заместителем министра экономики и финансов в правительстве Сильвио Берлускони. После этого Танци переквалифицировался в независимые эксперты и в этом качестве выпустил книгу «Правительства и рынки», которую можно назвать рефлексией о глубинных причинах глобального экономического кризиса 2008 года.
Ключевым тезисом, с которым Танци дискутирует с первых же страниц книги, является известное кейнсианское обращение к государству в периоды экономических и финансовых кризисов: правительства должны усовершенствовать регулирование рынков, особенно финансовых, увеличить расходы, стимулировать слабые сектора экономики и т. д. Если ваша вера в эти постулаты непоколебима, то, пожалуй, книгу Танци можно перестать читать уже на первых страницах — если вообще стоит ее открывать. Таких провокационных ловушек для заведомо кейнсианского читателя «мощный старик» из МВФ расставил по тексту еще немало. Чего только стоят рассуждения Танци в духе консерваторов середины XIX века, которые опасались долгосрочных последствий введения всеобщего голосования: «Вопрос влияния всеобщего избирательного права на налогообложение и государственные расходы привлек меньше внимания, чем заслуживает. Деятельность государственного сектора переориентировалась с обеспечения общественных благ и учреждения основных институтов на перераспределение дохода и защиту от экономических рисков. Стоит также указать, что, когда женщины получили право голоса, государственные расходы в странах всеобщего благосостояния стали осуществляться к большей выгоде женщин».
 Не скрывает Танци и своих симпатий к системе социального обеспечения, существовавшей до появления государства всеобщего благосостояния и основанной на сети учреждений общественной (в широком смысле, включая церковь) благотворительности. В Соединенных Штатах, менее всего поддавшихся соблазнам наращивания социальных расходов государства, благотворительная помощь, напоминает Танци, и сейчас достигает примерно 2 % ВВП, а если к этому добавить время, потраченное волонтерами на благотворительную деятельность, и неофициальную помощь, то этот показатель может значительно увеличиться. Однако все это вовсе не значит, что Вито Танци ратует за некое «возрождение традиций» или рассчитывает на замену государственной социальной политики благотворительностью корпораций, чья «социальная ответственность» зачастую измеряется ничтожными долями от их сверхприбылей. «Социальную защиту можно рассматривать не только как социальный, но и как экономический императив. Поэтому в современном мире просто необходимо иметь какую-либо систему социальной защиты. Но формат системы может быть разным», — подчеркивает Танци, просто напоминая о том, что современное государство исторично, а все, что имело начало, неизбежно будет иметь и конец.
Не скрывает Танци и своих симпатий к системе социального обеспечения, существовавшей до появления государства всеобщего благосостояния и основанной на сети учреждений общественной (в широком смысле, включая церковь) благотворительности. В Соединенных Штатах, менее всего поддавшихся соблазнам наращивания социальных расходов государства, благотворительная помощь, напоминает Танци, и сейчас достигает примерно 2 % ВВП, а если к этому добавить время, потраченное волонтерами на благотворительную деятельность, и неофициальную помощь, то этот показатель может значительно увеличиться. Однако все это вовсе не значит, что Вито Танци ратует за некое «возрождение традиций» или рассчитывает на замену государственной социальной политики благотворительностью корпораций, чья «социальная ответственность» зачастую измеряется ничтожными долями от их сверхприбылей. «Социальную защиту можно рассматривать не только как социальный, но и как экономический императив. Поэтому в современном мире просто необходимо иметь какую-либо систему социальной защиты. Но формат системы может быть разным», — подчеркивает Танци, просто напоминая о том, что современное государство исторично, а все, что имело начало, неизбежно будет иметь и конец.
Этот принципиальный историзм выгодно отличает книгу Танци от тех работ неолиберальных экономистов, где преимущества рынка перед государством подаются как некая аксиома, не зависящая от факторов пространства и времени. Историческая перспектива ставит «Правительства и рынки» на одну доску с работами другого известного итальянского экономиста, шагнувшего на поле исторической политологии, — Джованни Арриги с его знаменитыми книгами «Долгий двадцатый век» и «Адам Смит в Пекине». Как и Арриги, Танци уличает немалую часть своих коллег-экономистов в том, что они читали в лучшем случае первую главу «Богатства народов» Смита — иначе классик политэкономии вряд ли бы стал в расхожем представлении последовательным адептом «невидимой руки» рынка и «крестным отцом» рыночного капитализма. Связывать систему laissez-faire (невмешательства государства в экономику) с именем Адама Смита не совсем верно, настаивает Танци, — хотя бы потому, что во всех (!) его работах выражение «невидимая рука» встречается ровно три раза, а термины laissez-faire и «рыночный капитализм» отсутствуют вовсе. В действительности Смит полагал, что правительство могло бы облегчать и поощрять развитие торговли через создание административных институтов и инфраструктуры, а также через предоставление общественных услуг, которые содействуют торговле и обмену, а не затрудняют их.
Поэтому знаменитый смитовский список государственных обязанностей предполагает не ограничение, а значительное расширение и смену фокуса экономической роли государства, которая при жизни великого шотландского экономиста была более чем скромной. «Роль государства в экономике, как ее видел Смит, походит на то, что мы сегодня называем экономической функцией распределения ресурсов, — указывает Танци. — В споре нашего времени о том, должно ли государство содействовать экономическому росту или заботиться о равенстве, Смит выступил бы за поддержку роста, так как экономический рост ведет к росту абсолютного дохода трудящихся. Однако он ничего не имел против помощи государства самым бедным, кто не может заботиться о себе сам, которая оказывалась в Англии с 1601 года. Смит даже поддерживал пропорциональное налогообложение и налоги на предметы роскоши (в отличие от налогов на товары первой необходимости), которые „способствуют… облегчению доли бедных”. Здесь его также интересовало не распределение дохода, а абсолютный доход рабочего класса. В любом случае он не питал иллюзий относительно того, могут и станут ли правительства его времени заниматься перераспределением дохода сверху вниз. С учетом существовавшего в те времена типа правительства, исторический опыт подсказывал населению (и Смиту), что результат политики перераспределения будет прямо противоположным».
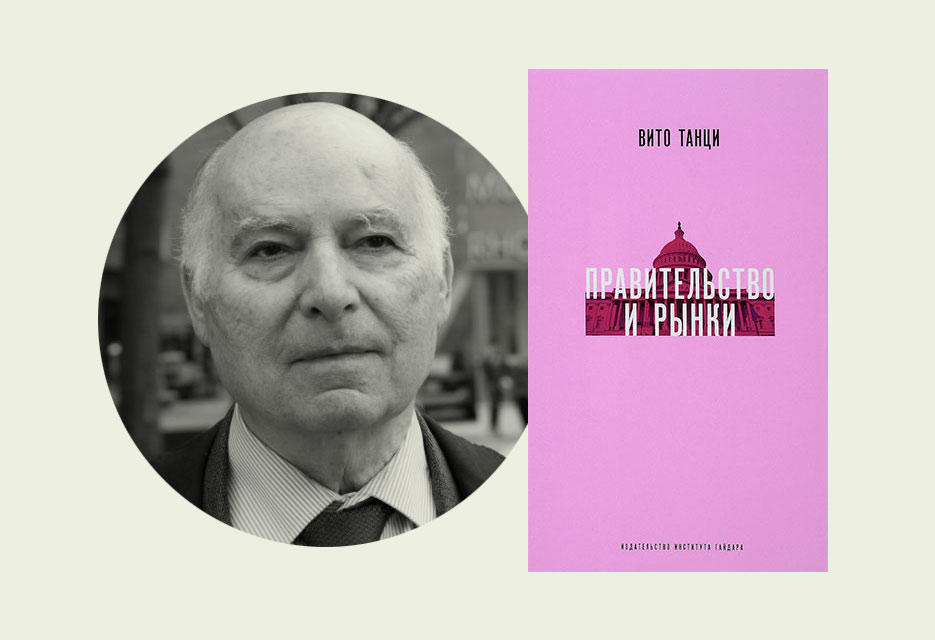
Вито Танци и обложка книги «Правительство и рынки: меняющаяся экономическая роль государства»
Фото: cambridgeblog.org / Издательство Института Гайдара
Этот же метод пристального чтения Танци использует и в разборе трактата Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», который постигла та же судьба, что и «Богатство народов»: эта книга украшает полки библиотек почти всех экономистов (и не только), но мало кто дочитывал этот в самом деле головоломный труд до конца. Действительно, признает Танци, Кейнс оспорил известную точку зрения, что рыночная экономика с гибкими ценами и адекватными процентными ставками всегда будет создавать достаточный спрос, объяснив Великую депрессию именно отсутствием достаточного совокупного спроса. Кейнс действительно утверждал, что правительство должно обеспечить достижение такого уровня инвестиций и сбережений, который будет достаточен для поддержания полной занятости в экономике. Однако, полагает Танци, кейнсианская экономика зашла намного дальше, чем этого хотел сам Кейнс, который на одной из встреч экономистов-кейнсианцев заметил: «Я был там единственный некейнсианец».
«Кейнсианская революция с ее акцентом на совокупный спрос и скрытым, а иногда и открытым страхом недостаточного потребления, привела к тому, что бережливость стала считаться не достоинством, а едва ли не изъяном человеческого поведения, — сокрушается уроженец католической страны Танци в духе протестантской этики. — В современном обществе хороший кредитный рейтинг считается более ценным активом, чем отсутствие долгов. Чтобы иметь хороший кредитный рейтинг, человеку нужны не сбережения, а долги, которые обслуживаются удовлетворительным образом. Те же, кто сберегал и не занимал, не могут иметь хороший кредитный рейтинг. Превратив сбережение из достоинства в недостаток, кейнсианская революция неявным образом сыграла на повышение роли государственных программ помощи нуждающимся». Между тем сам Кейнс, напоминает Танци, не призывал к значительному росту государственных расходов, отводя государству функцию регулирования крупного бизнеса и вводя требование полного раскрытия информации таким бизнесом. Подобные взгляды представляются чрезвычайно актуальными в свете последствий экономического кризиса 2008–2009 годов, резюмирует автор «Правительства и рынков».
Прекрасное владение Танци политэкономической традицией напоминает и о бестселлере норвежца Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными». Как и Райнерт, Танци специализируется на забытых фигурах в истории политэкономической мысли, чьи работы давно, казалось бы, сданные в архив, обретают злободневность в той ситуации, в которой оказалось современное государство. Разумеется, на почетных местах в этом списке стоят итальянцы — например, автор начала ХХ века Амилькаре Пувиани, который ввел в употребление термин «фискальные иллюзии», один из важнейших для книги Танци.
Согласно Пувиани, правительства стремятся максимизировать разницу между субъективными и часто ошибочно оцениваемыми выгодами от государственных расходов и субъективными издержками их финансирования, причем этот процесс носит динамический характер: правительства активно пропагандируют и/или закрепляют эти ошибки, намеренно создавая и используя «фискальные иллюзии». Как отмечал еще один полузабытый экономист, Хью Далтон, в 1945–1947 годах занимавший пост канцлера британского казначейства, лучшим налогом является тот, который ощущается меньше всего, то есть причиняет меньше всего неудобства и не требует сознательных жертв со стороны тех, кто платит его. Однако на поверку эта «невесомость» оказывается именно иллюзией. Например, правительства часто используют налоги, которые включены в цену продукта, так как в этом случае налогоплательщику сложнее заметить налог и осознать масштаб потерь. Таковы применяемые в Европе налоги на добавленную стоимость, которые, в отличие от используемых правительствами штатов в США налогов на розничную торговлю, не указываются отдельно от цены товара, а также налоги, смещающие бремя фактической уплаты налогов с тех, кто обязан их платить по закону, на других налогоплательщиков.
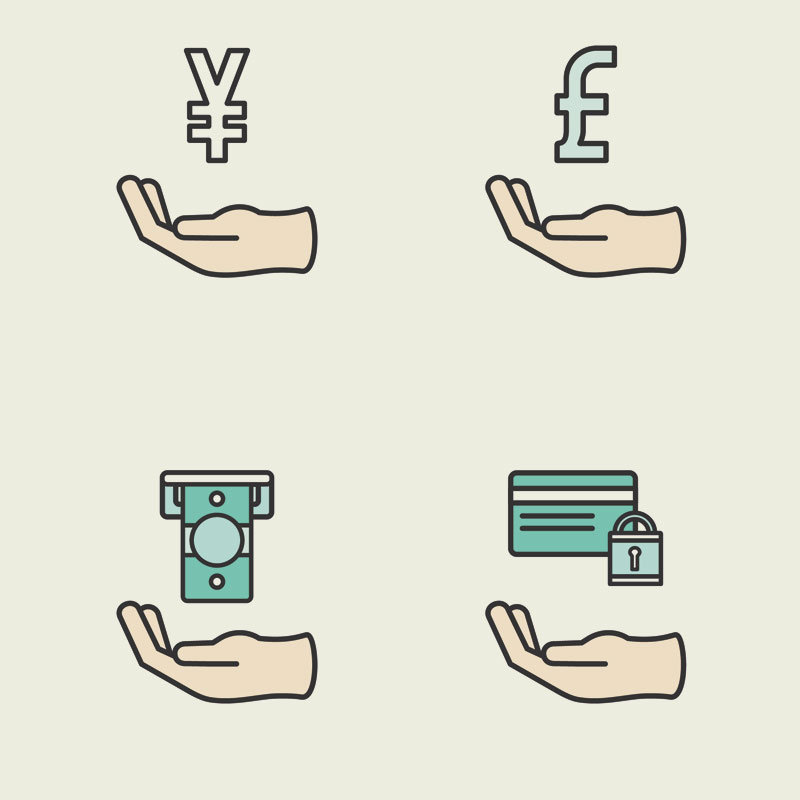 Следовательно, полагает Танци, фискальные иллюзии — это не случайные ошибки налогоплательщиков, а системные, искусственно создаваемые правительством ошибки, которые становятся его инструментом, а постоянное усложнение законодательства существенно упрощает их создание и закрепление. В качестве одной из наиболее распространенных фискальных иллюзий Танци называет как раз пенсионные системы — точнее, те из них, которые постулируют, что уровень будущих государственных пенсионных выплат может быть определен на много лет вперед. Эти рассуждения Танци легко спроецировать на ситуацию в российской пенсионной системе, где правила игры за последние годы регулярно менялись, и в итоге оказалось, что правительство не видит иных сценариев, кроме повышения пенсионного возраста. Расставание с фискальными иллюзиями неизбежно — но столь же неизбежно и их возрождение в новом виде, ведь мало кто откажется от того, чтобы потешить себя мыслью: заплатить придется не сейчас, а когда-нибудь потом — или не мне, а тому парню.
Следовательно, полагает Танци, фискальные иллюзии — это не случайные ошибки налогоплательщиков, а системные, искусственно создаваемые правительством ошибки, которые становятся его инструментом, а постоянное усложнение законодательства существенно упрощает их создание и закрепление. В качестве одной из наиболее распространенных фискальных иллюзий Танци называет как раз пенсионные системы — точнее, те из них, которые постулируют, что уровень будущих государственных пенсионных выплат может быть определен на много лет вперед. Эти рассуждения Танци легко спроецировать на ситуацию в российской пенсионной системе, где правила игры за последние годы регулярно менялись, и в итоге оказалось, что правительство не видит иных сценариев, кроме повышения пенсионного возраста. Расставание с фискальными иллюзиями неизбежно — но столь же неизбежно и их возрождение в новом виде, ведь мало кто откажется от того, чтобы потешить себя мыслью: заплатить придется не сейчас, а когда-нибудь потом — или не мне, а тому парню.
В том же русле поведенческой экономики лежит и другое примечательное рассуждение Танци — о логике функционирования государственных программ: «Новая программа вводится для помощи конкретной, ограниченной группе людей. Поначалу она требует небольших средств, ограничена по охвату и имеет четко обозначенный круг бенефициаров. Расходы также ограничены. Она выглядит обоснованной и адресована конкретно определенной категории граждан, нуждающихся в помощи, такой как бедные вдовы с маленькими детьми. Со временем возникает давление в сторону расширения числа бенефициаров и увеличения объема программ за счет смягчения требований. Стандарты постепенно смягчаются, а число бенефициаров растет, как и расходы по программе. В результате программа, которая сначала представлялась недорогой, делается все более дорогостоящей. Еще хуже то, что программа становится менее справедливой, потому что новые группы бенефициаров обычно меньше нуждаются в помощи, чем первоначально включенные в программу, однако получают такие же пособия. В результате возникает проблема горизонтального неравенства при получении государственной помощи».
Этот алгоритм Танци называет ни больше ни меньше как фундаментальным законом развития государственных программ — и приложение этого закона к российской действительности также позволяет с высокой вероятностью предсказать ближайшие последствия затеянной правительством пенсионной реформы. Как сказал в недавнем интервью автору этой рецензии политолог Алексей Чадаев, «„народ-богоносец” у нас во многих аспектах грамотный и четко знающий, что ему и как „положено”. Поэтому, во-первых, резко вырастет число инвалидов III и II группы. Каждый второй доживший до 60 лет легко может оформить себе инвалидность по общему заболеванию и начнет получать соответствующее пособие. Во-вторых, значительно увеличится число официальных безработных, зарегистрированных и получающих пособие, причем, учитывая их предыдущий трудовой стаж, пособие им будет платиться по максимуму. Есть и немало других способов „компенсировать” отобранную пенсию из других форм социальных выплат, льгот, пособий и т. п. Иными словами, реальная экономия бюджета довольно быстро станет стремиться к нулю — за счет роста расходов по другим социальным статьям».
Примеры подобной компенсации в книге Танци приведены в избытке. В частности, расширение программ выплаты пенсий по инвалидности в Европе привело к тому, что одинаковые пенсии стали получать люди с совершенно разными степенями нетрудоспособности. В ряде случаев граждане, еще способные трудиться на разнообразных работах, выходят на пенсию раньше обычного срока и при этом сохраняют право на другие пенсии, как это часто бывает среди полицейских в богатых округах Соединенных Штатов. Так что российское правительство в самом деле оказывается перед неприятной дилеммой: либо вовсе отказаться от повышения пенсионного возраста, либо это решение станет лишь первым в серии непопулярных мер по сворачиванию льгот и последовательной ликвидации остатков социального государства.
Наконец, Танци приводит еще один — причем самый очевидный — аргумент в пользу того, что социальное государство в действительности работает не на общество в целом, а на отдельные его группы, заинтересованные в расширении государственных расходов. За те десятилетия, что государственные расходы росли в большинстве стран, ничего не изменилось в том, как работает правительство в смысле механизмов его функционирования. Самым ярким примером этого Танци считает роль глав правительств или государств (премьер-министров или президентов), особенно в таких странах, как США, где главой правительства и главой государства является одно и то же лицо. В результате срабатывает хорошо известный принцип советской продавщицы — вас много, а я одна: «Невозможно иметь несколько президентов в таких странах, как Соединенные Штаты, или несколько премьер-министров в странах, являющихся парламентскими демократиями. Этот основной компонент остается неизменным, в то время как число лиц, которые формально докладывают или должны докладывать президенту или премьер-министру по своим направлениям работы, выросло неимоверно. А президент в Соединенных Штатах всего один. Он был один в 1800 году, он остается один и сегодня. Но предполагается, что занимающее высшую должность лицо контролирует всю деятельность правительства, изучает все утверждаемые законы, принимает множество решений и выполняет множество иных официальных функций. Очевидно, что здесь мы имеем серьезную, обостряющуюся проблему. Современный мир намного сложнее, чем мир 1800 года. А с увеличением числа взятых на себя правительствами обязанностей эта проблема становится еще серьезнее. И ситуация постоянно ухудшается».
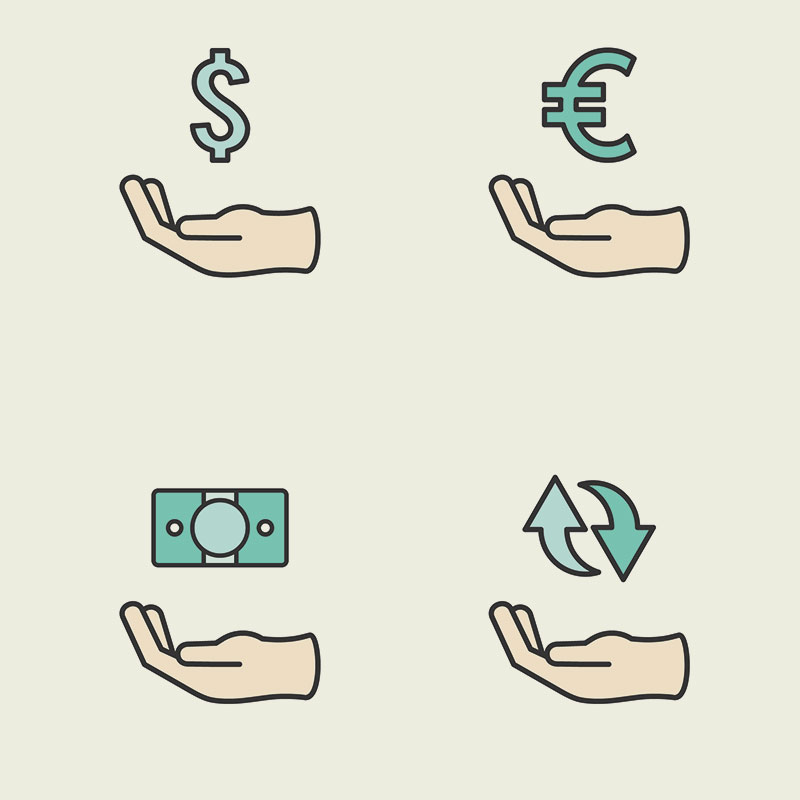 Следующий пассаж также посвящен США, но в нем незамедлительно угадываются родные реалии — наш «взбесившийся принтер» оказывается отнюдь не уникальным явлением: «Появляется все больше свидетельств, что некоторые сложные законопроекты, направляемые в законодательные органы (например, законопроекты, реформировавшие систему здравоохранения и финансовую систему Соединенных Штатов), принимаются даже без их прочтения многими законодателями. Причина в объеме текстов законопроектов, их сложности и отсутствии времени на чтение у законодателей. Также очевидно, что подписывающий и утверждающий законы президент не имеет времени на то, чтобы прочитать и полностью понять их. Было бы ошибкой считать, что президент крупной страны, такой как Соединенные Штаты, смог бы контролировать все действия и политику правительства, какими бы способностями он ни обладал».
Следующий пассаж также посвящен США, но в нем незамедлительно угадываются родные реалии — наш «взбесившийся принтер» оказывается отнюдь не уникальным явлением: «Появляется все больше свидетельств, что некоторые сложные законопроекты, направляемые в законодательные органы (например, законопроекты, реформировавшие систему здравоохранения и финансовую систему Соединенных Штатов), принимаются даже без их прочтения многими законодателями. Причина в объеме текстов законопроектов, их сложности и отсутствии времени на чтение у законодателей. Также очевидно, что подписывающий и утверждающий законы президент не имеет времени на то, чтобы прочитать и полностью понять их. Было бы ошибкой считать, что президент крупной страны, такой как Соединенные Штаты, смог бы контролировать все действия и политику правительства, какими бы способностями он ни обладал».
Поэтому вывод, к которому приходит Вито Танци в конце книги, неутешителен: эта постоянно возрастающая сложность и ее последствия могут оказаться предельной ценой, которую необходимо заплатить за расширение роли государства в экономике, а также самой большой опасностью для рыночной экономики и демократии в будущем. «Скорее всего, именно сложность станет основным фактором, определяющим работу правительств в будущем, — полагает автор „Правительства и рынков”. — Если процесс усложнения не обуздать, он приведет к „захвату государства” теми, кто располагает большими ресурсами, либо к обратной реакции в виде популизма, угрожающего рыночной экономике. Эффективное решение этой проблемы потребует глубокого, практически невозможного изменения всего порядка деятельности государства. А в этом отношении трудно сохранять оптимизм».
И здесь следует сказать о самой слабой, или, точнее, самой уязвимой стороне книги Танци. Она заключается в том, что практически весь ее эмпирический материал имеет отношение к странам «золотого миллиарда», того самого the West, которому противопоставлены все остальные (the rest) всеобщего благосостояния, уцелевшие после краха советского государства. Статистические данные незападных стран, даже Китая, не говоря уже о России, привлекаются Танци лишь эпизодически, и это регулярно рождает ощущение, что «мощный старик» лукавит, критикуя неэффективность социального государства в Европе и Америке. Ведь если на Западе социальное государство во многом было неким приятным дополнением к глобальной экономической гегемонии, то попытки его построения в незападных странах зачастую были трагичными, а провалы выражались не в цифрах бюджетных средств, потраченных на ветер, а в тысячах человеческих жизней. Явно лукавит Танци и в том, что почти не упоминает такой фактор, повлиявший на становление социального государства на Западе, как необходимость дать адекватный ответ советскому проекту — без этого невозможно понять быстрый рост государственных расходов в два «золотых десятилетия» после Второй мировой войны. Средней нормой для мира являются не страны «золотого миллиарда», а Мексика, Пакистан или Индия — без их учета картина, которую предлагает нам Танци, далеко не полна. Поэтому без ответа остается и главный вопрос современности: заявит ли о себе сила, готовая бороться хотя бы за остатки социального государства, или же мы стремительно возвращаемся в те милые для Вито Танци времена, когда правительства фактически не несли никаких социальных обязательств перед своими гражданами?