Как ОГПУ «утяпало» дневники Андрея Белого
Рецензия на книгу «Все мысли для выхода в свет — заперты»
Андрей Белый. «Все мысли для выхода в свет — заперты». Дневники 1930-х годов / Сост., вступ. ст., подг. текста и коммент. М. Спивак. М.: Common Place, 2021. Содержание
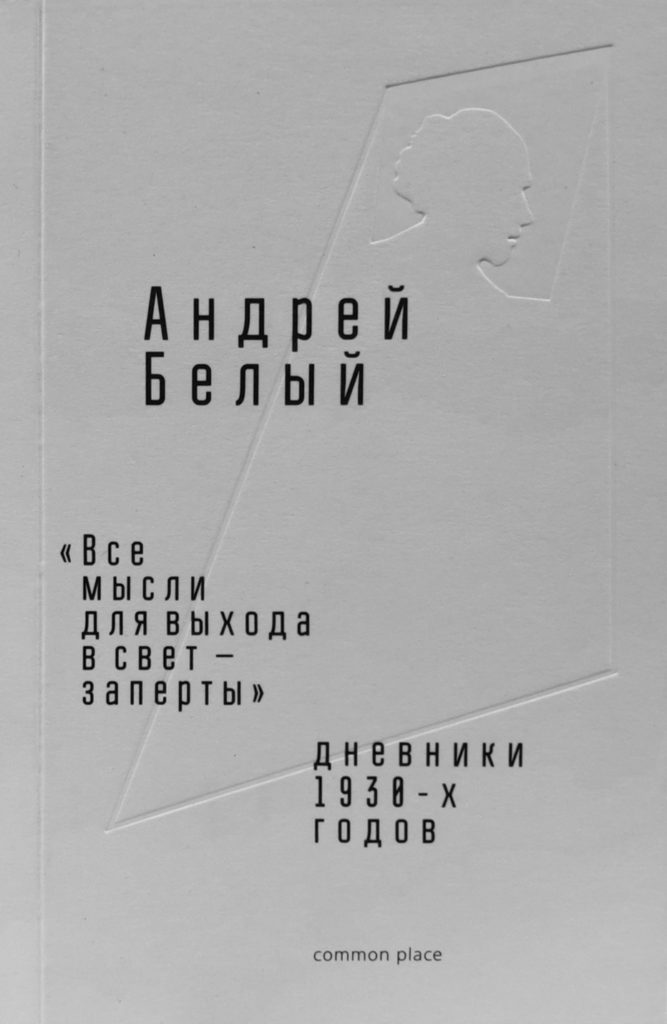 Необходимо сразу пояснить, что дневники поэта, сохранившиеся далеко не полностью, уже публиковались в составе огромного тома «Автобиографических сводов» в серии «Литературное наследство», но составляли там только один из разделов. Отдельного издания дневники Белого начала 1930-х безусловно заслуживают: перед нами автопортрет, пусть фрагментарный и субъективный, выдающегося литератора в годы «великого перелома». Более того, сами его тексты испытали на себе жестокость утверждавшегося тоталитарного режима — попросту говоря, эти дневники изымались ОГПУ в 1931 году, о чем будет сказано подробнее чуть ниже.
Необходимо сразу пояснить, что дневники поэта, сохранившиеся далеко не полностью, уже публиковались в составе огромного тома «Автобиографических сводов» в серии «Литературное наследство», но составляли там только один из разделов. Отдельного издания дневники Белого начала 1930-х безусловно заслуживают: перед нами автопортрет, пусть фрагментарный и субъективный, выдающегося литератора в годы «великого перелома». Более того, сами его тексты испытали на себе жестокость утверждавшегося тоталитарного режима — попросту говоря, эти дневники изымались ОГПУ в 1931 году, о чем будет сказано подробнее чуть ниже.
Скажем сначала несколько слов о положении Андрея Белого в советской культуре и литературе первой половины 1930-х годов. С одной стороны, он был безусловным классиком, что признавали не только коллеги по обе стороны границы СССР и советские функционеры, но и простые читатели. Например, «Литературная газета» получила такое письмо от комсомолки-колхозницы Е. Касимовой из деревни Молзино Московской области:
«Я вспомнила, когда я читаю Белого. Несколько дней загружены до отказа: бегаем по деревне, в поля, заполняем сводки о семенах, о навозе, о пашне. Наконец, осенняя посевная закончена. Тогда в эти дни нам хочется музыки. И вот тогда-то берешь с полки Белого. Я читала только „Москва”, „Серебряный голубь” да „Пепел”. У Вас, Борис Николаевич, вовсе не „узкий круг читателей”. Ваши книги читают товарищи мои — это ребята с производства, рабочие, колхозники и бойцы Красной Армии. Хотелось благодарить Вас за то, что Вы даете своей работой».
В начале 1930-х Андрей Белый пишет много и довольно часто публикуется. В 1932 году вышел роман «Маски» из цикла «Москва», печаталась мемуарная трилогия (последняя часть вышла после смерти автора), была завершена книга «Мастерство Гоголя». Белый готовит переиздание своих ранних стихов и столь кардинально их редактирует, что впору считать их новыми сочинениями. Конечно, не все тексты Андрея Белого имели шанс миновать советскую цензуру: главный его труд, «История становления самосознающей души», так и остался в архиве автора.
С другой стороны, было твердо установлено, что Андрей Белый — не пролетарский писатель, не социалистический реалист, а всего лишь так называемый попутчик, иначе говоря, он всегда на подозрении у советской власти, должен работать над собой и перестраиваться. Сам Андрей Белый это понимал и принимал правила игры. Вот что говорил он на пленуме оргкомитета Союза советских писателей в 1932 году:
«Товарищи, двадцать пять лет назад я читал Маркса; я читаю и Ленина. Но могу ли я считать себя спецом в понимании диалектики? Нет. Мое центральное ремесло: красочно организовать слова для наилучшего выражения тенденции в красках. Не претендуя на голову, тем не менее я хотел бы, чтобы эту голову организовали спецы философии, а не банализаторы лозунгов. Для чего мне это нужно? Чтобы провести конкрет тенденции сквозь мой станок, дабы она отразилась в конкрете красок... Мы хотели бы с головой служить делу социалистического строительства! Но кроме проблемы головы есть проблема „станка”, проблема нашего ремесла: это о том, как нам нужно служить социализму в спецификуме средств, то есть словами, красками и звуками слов... Что извлекает из меня энтузиазм? Факт, что обращение партии и ко мне, обобществляет мой станок. Раз это так, я должен его передать государству во всех особенностях его тонкой структуры; я должен бороться за то, чтобы мой станок был в исправности, потому что испорченный станок есть вредительство, пусть бессознательное. (Аплодисменты)»
Мнение писателя о марксизме, его идеологии, практике и связи с созиданием самосознающей души можно обнаружить на страницах черновиков главного его сочинения того времени — «Истории становления...». Белый пишет там, что сама логика экономического порабощения способствует вызреванию в толще третьего сословия нового вида человека — пролетария, сословия четвертого. Белый упоминает Ленина, величайшего практика социальной революции: «К учению Маркса о классовом расслоении человечества он присоединил учение о классовом расслоении народов». Движение Востока (России) на буржуазный Запад есть показатель именно социальной революции. Не нравится Белому в марксизме конечность его пути, совершенно противоположная бесконечности исторических кривых самосознающей души. Белый пишет о «косности выхождения человечества к абсолютному пункту равновесия — социалистическому государству». Он предупреждает об опасности атрофии самой способности к движению: «Раз достигнуто экономическое равновесие хозяйств, так и всякое движение сознания должно погаснуть, навеки приклеенное к абсолютно недвижному государственному печному горшку и печному пайку».
Началом 1930-х годов датируется и растущий интерес Андрея Белого к литературе соцреализма. Он рецензирует роман Гладкова, поэму Санникова, пишет пространное эссе о краеведческом очерке и, наконец, замышляет «производственный роман» по мотивам своих немецких впечатлений 1921–1923 годов («Германия»).
С третьей стороны, именно в начале 1930-х годов и сам Андрей Белый, и его тексты попадают в губительную орбиту карательных органов советской власти. В 1931 году ОГПУ инспирировало «дело антропософов», негласным лидером которых в Советском Союзе был, конечно, Белый. В ночь с 8 на 9 мая 1931 года бумаги писателя, в том числе дневники последних лет, были конфискованы, а уже 13-м датирована изготовленная в недрах ОГПУ машинопись с выдержками из этих дневников. В мае прошли массовые аресты антропософов, арестована была и спутница жизни Белого — Клавдия Васильева. В обвинительном заключении написано недвусмысленно: «Политическая физиономия Белого в настоящем с достаточной полнотой характеризуется приводимыми выдержками из его дневника за 1930/31 год. В философии, политике и литературе Белый представляет собой ярко выраженную к/р фигуру. Успехи социалистического строительства, борьба за классовую выдержанность в литературе и искусстве, все основные мероприятия партии и Соввласти вызывают в нем открыто к/р реакцию». И в ежегодном отчете Секретно-политического отдела ОГПУ «Об антисоветской деятельности среди интеллигенции» писатель-мистик Андрей Белый фигурировал в качестве идейного вдохновителя и руководителя подпольной организации антропософов. Тем не менее сам писатель не был репрессирован, отпустили каратели и Клавдию Васильеву — правда, с условием, что пара зарегистрирует свои семейные отношения: «Нас навсегда соединило с Клодей ГПУ». Только дневники так и не были возвращены — их утяпали, поэтому в книге публикуются лишь «Выдержки...», приобщенные к делу.
Теперь обратимся к особенностям дневниковой прозы Андрея Белого. О причинах ведения дневников сам Белый писал так: «Возвращаюсь к прерванному „Дневнику”. Бросил его после ареста К. Н. Но потребность — вернуться; цель — самопознание, самопроверка; у меня — рост мыслей; и — атрофия словесных возможностей: к их выражению... Дневник необходим, как сводка простых отметок (пусть с ошибками), это в тебе живет превышающее тебя; человеку нужна прогулка; нужен физический труд; и так же нужен дневник, чтобы знать, что за всеми искажениями его неполной записи есть неискажаемое, вечно живое» (25 июня 1932). В дневниках писатель не только фиксировал жизненные впечатления — встречи и разговоры, — но и вел рабочие черновые заметки, например, к «Истории становления...» или о поэме Г. Санникова. Кроме того, дневники служили материалом для мемуаров Андрея Белого и по мере воссоздания биографической канвы, скорее всего, уничтожались автором.
Главное в дневниках последних лет жизни Андрея Белого — отношение к трагически меняющейся советской действительности. Поэт отмечает связь между пропагандистской шумихой вокруг пятилетки и ухудшением материального положения людей: «Радость ли блестит в глазах уличных прохожих? Переутомление, злость, страх и недоверие друг к другу точат эти серые, изможденные и отчасти уже деформированные, зверовидные какие-то лица. Сейчас читал доклад Сталина о том, что во всем мире неблагополучно, и лишь мы лопаемся от довольства, достижений, развития промышленности, продукции. Где же продукты продукции? Почему нет кожи для сапог, и я не мог при всем усилии купить себе ботинок, нет хлеба, нет мяса, нет штанов, нет сахару, нет папирос, нет тканей, нет медикаментов, нет мыла (значит, грозят эпидемии), нет бумаги, периодически исчезают спички, нет дров, нет... Я не знаю, что есть» (2 июля 1930). С возмущением Белый отмечает усиление разгромных «общественных» кампаний против деятелей культуры: «Каждый номер „Литературной газеты” — расплев кого-нибудь: геволт, матерная брань, обещания стереть с лица земли всеми усовершенствованными орудиями ГПУ и всею силою мирового пролетариата. Прочтя очередной залп статей, начинает кружиться голова и охватывает ужас за того, кого оплевали: жив ли он, не расстрелян ли он, не покончил ли он самоубийством, до того тяжел молот, обрушивающийся на выбранную жертву; иногда потом через год „жертва“ ходит живая и здоровая, иногда даже в ус не дует. Если перечислить, кого не оплевали за 2 последних года, то окажется, нет ни одного не оплеванного талантливого человека. Нет ни одной не оплеванной литературной организации» (12 мая 1930). И далее Белый называет Михаила Чехова и Мейерхольда, Булгакова и Пильняка, Замятина и Голованова, «напостовцев» и «перевальцев», «Федерацию» и «детских писателей» и т. д.
Отражен в дневнике и размах усиления репрессий: «Утром впечатление: 48 расстрелов вредителей, а почему не расстреляли вредителей жизней всего московского населения, посадивших население без дров в ужасный холод? Деревья целы, головы у коммунистов на плечах: могут додуматься до необходимости отопления?.. Далее известили: арестованы Егоров, Готье, Любавский, т. е. историки. Арестованы Чаянов, Громан, Базаров и ряд лиц как вредители... Далее — слухи: де арестован Пильняк, Пантелеймон Романов» (25 сентября 1930).
Ретроспективно рассматривая биографию Андрея Белого, можно предположить, что он совершил ошибку, вернувшись на родину из Берлина в 1923 году. Надо заметить, что идеалист и мечтатель Белый уже в начале 1920-х годов не питал иллюзий относительно сущности советской власти: «Помни, что за нами и за границей следят агенты Чрезвычайной комиссии. А я оставляю маму в России, которую могут арестовать за меня» (Андрей Белый — Асе Тургеневой). Пожалуй, русский Тангейзер выбрал не ту дорогу: холодная Ася, марионеточный театр Дорнаха и интеллектуальная сеть антропософии были лучше теплой Клоди, квартиры в подвале на Плющихе и слепящего прожектора ГПУ. Сокрушался из-за своей ошибки и сам писатель: «Я из всех без вины виноватых наиболее виноватый» (Белый — Зайцеву, 1932 год). Во всяком случае, с начала 1930-х годов он был под колпаком у советских спецслужб; в любой момент его могли арестовать и репрессировать: обвинительное заключение было готово, дело оставалось лишь за санкцией Политбюро. В 1931 году Белого решили не трогать, но счастливое стечение обстоятельств не могло не вызывать подозрений. Известный советский диссидент и политический узник Сергей Григорьянц в мемуарах обмолвился о возможной связи Клавдии Бугаевой-Васильевой с органами ГБ: якобы у нее была и награда, немедленно исчезнувшая из дома после ее смерти.
Итак, поэт оказался в смертельной ловушке: «Господи, боже мой, встречаем не новый год, а новый период. Два маленьких, слабых существа спят, схватясь за руки, и поднимают к Тебе, Боже, с мольбою глаза, и просят, просят, просят... С той, которая мне всё, стоим на острие перегиба и чувствуем всю нашу малость и все наше бессилие» (1 января 1930). От вполне вероятной судьбы жертвы террора Андрея Белого уберегла безвременная кончина. В начале 1934 года он перешел в вечность, но, как выразился его собрат Борис Пастернак, «Смерть — это только этап в существовании Андрея Белого».