Как мыслят сверчки
О книге «Думай как антрополог»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мэтью Энгельке. Думай как антрополог. М.: Ad Marginem, 2024. Перевод с английского А. Арамяна, К. Митрошенкова. Содержание. Фрагмент
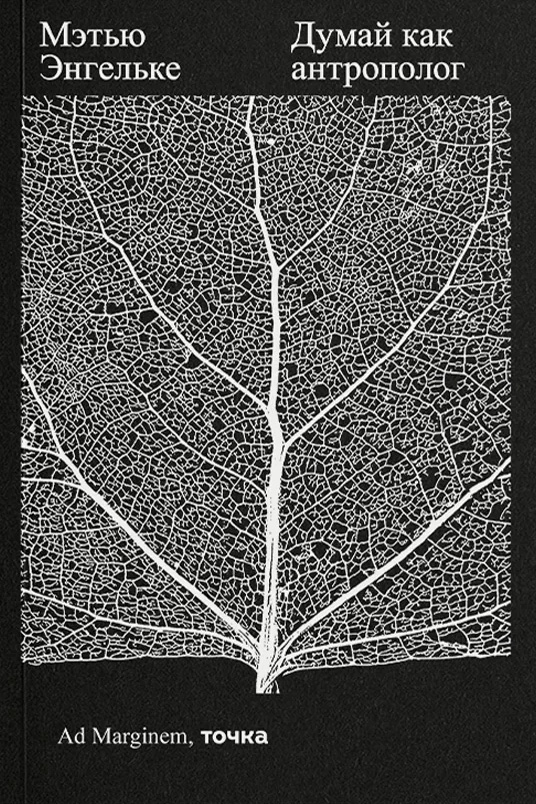 В начале книги автор рассказывает хорошую историю.
В начале книги автор рассказывает хорошую историю.
Он, юный студент антропологии из США, приезжает на первую полевую стажировку — в Зимбабве. Он проводит много времени с Филипом, сверстником из принимающей семьи. Молодые люди гуляют по холмам, смотрят на бабуинов и ведут культурные беседы. Разговор несколько сбивчив, поскольку хозяин плоховато знает английский, а гость еще хуже изъясняется на местном языке. На одной из таких прогулок Филип спрашивает, любит ли его американский приятель крикет. Будущий исследователь тут же вспоминает, что этот вид спорта страшно популярен у зимбабвийцев, и на всякий случает отвечает: «Да». Обрадованный африканец тащит друга домой, уходит на кухню и тут же возвращается, держа в руках почему-то не биту или мяч, а металлическую миску. В ней лежит жаренный в масле сверчок (по-английски тоже cricket). В ужасе Мэтью Энгельке осознает, что удостоился большой чести: сверчки по местным меркам — деликатес. Отказаться нельзя. Повторяя про себя, что еда — это культурный конструкт, а он антрополог, т. е. этих самых конструктов развинчиватель, молодой американец тянет руку к масляному чудовищу.
«Однако все книжные знания в мире не могут отменить знания другого рода — двадцати лет собственной жизни. Когда я положил сверчка в рот, прожевал (он был слишком крупным, чтобы умять его целиком) и с трудом проглотил, меня передернуло, грудь сдавило, и не прошло и трех секунд, как сверчок и весь мой завтрак вышли наружу».
Всю эту сценку автор приводит, чтобы проиллюстрировать понятие культуры, ключевое для антропологии, и потому тут же продолжает:
«Культура — это то, как мы видим и мыслим. Культура — это то, как мы осмысливаем. Культура — это то, что не позволяет некоторым людям даже думать о сверчках как о „еде“... Культура материальна. Она воплощается и воздействует. Меня стошнило от сверчка. Но вывернуло меня не из-за кишечного вируса. Это не было „естественной“ или „биологической“ реакцией. Меня вырвало потому, что сам организм мой культурный или окультурен. А в моей культуре не принято есть сверчков».
Это история хороша не только своей доходчивостью, но и тем, что она устроена как голограмма: в ней отражается основной аргумент книги. Думать как антрополог означает видеть, что за естественными, казалось бы, вещами (например, отвращением) стоит привычка, традиция, нечто, что могло бы сложиться другим образом. Отсюда следует: именно там, где нам все кажется ясным и однозначным, могут разверзнуться бездны различий. Несъедобное окажется деликатесом, ум обернется глупостью, мужское — женским и т. д. и т. п. Это и есть культурный релятивизм, который Энгельке называет фундаментом всей антропологии — наряду с первичным сбором данных как фирменным методом.
Собственно, книга позиционируется автором как введение в антропологию — и в таком качестве опознается публикой: коллеги-рецензенты признаются, что охотно рекомендуют ее своим студентам. Устроив короткий экскурс в историю науки, Энгельке предлагает девять глав с разбором центральных антропологических понятий. В них входят культура, цивилизация, ценности, ценность, кровь, идентичность, авторитет, разум и природа. Полноту списка можно критиковать (где, скажем, гендер или рефлективность), но это не интересно, потому что с задачей представить мыслительный почерк дисциплины он вполне справляется — правда, в получившемся представлении есть специфический наклон.
Главы организованы следующим образом: Энгельке ставит проблему, связанную с понятием, и рассказывает, как менялись на нее взгляды антропологов, на примерах конкретных исследований. Исследования подобраны с плот-твистами, бросающими вызов нашим привычным представлениям. Так, например, в главе «Кровь», автор расшатывает идею кровного родства как базовой, основной связи между людьми, ссылаясь на исследования инуитов, у которых отношения родителей и детей, братьев и сестер не предполагают взаимных обязательств и даже постоянных контактов, и далее — на феномен молочного родства в традициях ислама, где грудное молоко оспаривает статус крови как «первичной» жидкости.
Энгельке очень последователен в своей проблематизации универсалий и в главе «Авторитет», например, показывает, что не абсолютно даже патриархальное угнетение.
«Итак, неужели все культуры в конечном счете патриархальные? А женщины — второй пол?
Короткий ответ: нет. Чуть более длинный ответ: оба вопроса ложны. Ни один из этих ответов не отрицает и не преуменьшает значимости того, что социальные роли и положение женщин, не говоря уже о самих женщинах, находятся в тени мужчин. И тем более речь не идет о том, чтобы замалчивать безобразия власти, которые нередки. Но мое „нет“ означает, что мы не можем натурализовать гендерные отношения; мы не можем, располагая этнографическими данными и положа руку на сердце, сказать, что... мужчины всегда в конечном счете сверху».
В качестве иллюстрации к тезису антрополог анализирует феномен «свадебного выкупа за невесту», существующего у многих народностей, и показывает, что осмысление его как признака подчиненности и второсортности женщин обусловлено западными (а не локальными) воззрениями на обмен. На практике же «свадебный выкуп» может служить женской эмансипации, как это показывает в своих работах китайский антрополог Юньсян Янь.
«В разные периоды в 1990-е и 2000-е годы Янь наблюдал, как будущая невеста упорно торговалась со своими будущими свекром и свекровью, договариваясь и передоговариваясь об условиях свадебного дара — естественно, при заведомой поддержке ее домашних... Особенно поразила Яня одна двадцатидвухлетняя женщина. Она так беззастенчиво вела переговоры со своими свекрами, что односельчане прозвали ее шкурницей. Но она ни о чем не жалела. „Посмотрите, как в конце концов все сложилось“, — говорила она Яню. — У меня чудесный сын, две дойные коровы, самая современная техника в доме и муж что надо, слушается меня во всем! Свекр и свекровь меня уважают и помогают по хозяйству. Ничего этого у меня не было бы, не будь характера (гэсин). Все девушки в деревне восхищаются мной».
Проблема, как водится, является продолжением достоинств: «Думай как антрополог» легко читать, поскольку коллекции занятных кейсов, рассказанных с мягким юмором, легко читаются. Но сама антропологическая мысль в таком изложении принимает форму относительно глубокой мудрости — «гляди-ка... как оно, оказывается, бывает... мы такие разные, и все-таки мы вместе». Такой наклон чужд всякого радикализма, антропологам вообще-то свойственного, — возьми ты хоть Мосса, хоть Грэбера, хоть даже Латура.
Позволю себе небольшое отступление.
...Один мой знакомый возвращался домой через парк (дело было в Москве). В осенней темноте он был остановлен полицейским патрулем, который поинтересовался, что лежит в рюкзаке у потенциального правонарушителя. Среди немногочисленных вещей там оказалась книга «Как мыслят леса» Эдуардо Кона — представителя так называемого онтологического поворота в антропологии. «Ну и как мыслят леса?» — спросил у знакомого молодой лейтенант с легким вызовом. «Примерно так же, как и вы», — ответил знакомый, ни капли не погрешив против истины, которую пытается донести коллега и соотечественник автора «Думай как антрополог».
К сожалению, книге Энгельке не хватает парадоксальной остроты, коей ты, читатель, можешь насладиться в этой короткой зарисовке об антропологии по ту сторону человеческого...
Беззубый тезис «мы такие разные» плохо вяжется с обещанием из аннотации, согласно которому издание «на примере множества теоретических доводов и фактов» объяснит, «почему антропология важна: она позволяет нам лучше понять других с их отличными от наших взглядами и убеждениями, а тем самым и лучше разобраться в себе самих». Но, как ни странно, из работы трудно понять, почему же эта дисциплина важна. Автор приводит всего пару примеров «действенной антропологии, которая меняет мир к лучшему» (исследования Международного совета по этике трансплантации органов и причин высокой смертности от лихорадки Эбола), — и то на последних страницах, предваряя их стеснительным уведомлением:
«Я надеюсь, что какая-то часть этой информации пригодится. Факты, социальные и прочие (хотя, возможно, не „альтернативные“), всё еще чего-то стоят. Полезно знать кое-что о кастовой системе в индуизме, о том, что такое фетва, о том, что есть на планете место, именуемое Тробрианскими островами, где культурный туризм и миссионеры-пятидесятники стали такими же насущными реалиями, как древние традиции круга кула и обмена тканью из банановых листьев на похоронах».
Полезно, кто бы спорил. Но откуда эта неуверенность? Быть может, дело в том, что, несмотря на всю свою важность — на сцепление с «социальными и прочими» фактами, антропология по какой-то причине нечасто переходит в плоскость реальных трансформаций?
Ответ, отчего это редко происходит, дает Тим Ингольд в эссе «Почему антропология важна», во многом созвучном тому, что пишет Энгельке, но куда более смелом.
«Ни одна другая дисциплина не занимает столь же выгодное положение, располагающее к тому, чтобы применить весь вес человеческого опыта во всех сферах жизни к вопросам о том, как создать мир, пригодный для жизни будущих поколений. Однако в публичных дебатах по этим вопросам антропологи в большинстве случаев заметны своим отсутствием. Представители различных дисциплин выходят на сцену, предлагая свои соображения по поводу нашего места в мире и прогнозы на будущее. Но где же антропологи? Возможно, их отсутствие связано с тем, что у них нет своей экспертной области и связного корпуса знаний, которые можно было бы представить. Общество справедливо ожидает от академической науки ответов на свои вопросы. Но вероятный ответ антропологов заключается в том, подвергнуть сомнению самих вопрошающих, обнажить их неявные допущения, заметить, что другие люди — не делающие таких допущений — поставили бы вопросы иначе... Антропология не дает вам того, что вы хотите знать, — она ставит под сомнение основы того, что, как вам казалось, вы уже знали... Это вызывает дискомфорт. Верность принципу „принимать других всерьез“ блокирует для антропологов стратегию, которой придерживаются многие научные авторы — ориентироваться на заведомо известные интересы читателей и удовлетворять их данными и идеями, приправленными новизной».
Иными словами, антропологи всё критикуют, но не предлагают. Вопрос следует поставить так: насколько культурный релятивизм — другое название принципа «принимать других всерьез» — совместим с политическим действием, необходимым для создания другого мира вместо нашего, необратимо прекрасного? И есть ли политическое содержание внутри самого культурного релятивизма?
Энгельке пишет, что «культурный релятивизм не означает, что у нас не может быть твердых ценностей или что, будучи ученым (или поэтом, священником, судьей), нельзя сказать ничего непреложного или хотя бы общепринятого о человеческом бытии в целом или в межкультурном пространстве». По версии Ингольда, антрополог, этот развинчиватель конструктов, занимает промежуточное положение между художником и «обычным» позитивным ученым. Какие твердые и непреложные ценности он способен провозгласить? Вероятно, прославить принципиальную множественность таких ценностей, мудрость их реализации в материальной жизни и приветствовать способы общежития, в которых носители этой множественности могут сосуществовать.
Откуда у него возьмется оптимизм, чтобы полагать это возможным, мне понятно не вполне.