Как говорить с детьми о бесах
Пока новые книги поступают ручейком, «Горький» советует, что перечитать в океане давно изданного
Грег Иган. Карантин. М.: АСТ-ЛТД, 1997. Перевод с английского Л. Левкович-Маслюк, Е. Мариничева и др.
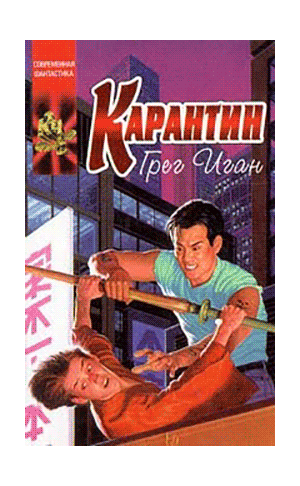 Обладатель важных жанровых премий (включая премию Хьюго), математик-любитель Грег Иган стал писать твердый сай-фай в начале 1990-х; он по-прежнему считается одним из главных авторов в стиле, где принято не нарушать научных законов. Иными словами, «твердая» научная фантастика строится на знаниях естественных наук, признанных истинными на момент создания произведения.
Обладатель важных жанровых премий (включая премию Хьюго), математик-любитель Грег Иган стал писать твердый сай-фай в начале 1990-х; он по-прежнему считается одним из главных авторов в стиле, где принято не нарушать научных законов. Иными словами, «твердая» научная фантастика строится на знаниях естественных наук, признанных истинными на момент создания произведения.
Основным источником вдохновения для австралийца служат интерпретации квантовой механики, хотя общий список научных инспираций широк — от генетики до разработки искусственного интеллекта. А еще в текстах Игана сквозит специфичная, очень интимная интонация обреченности и боли. Трудно не усмотреть связку с личным опытом писателя, который остро разочаровался в религии и в итоге закрепился на позициях онтологического натурализма — нет ничего сверхъестественного, все познаваемо естественными науками и т. п. (ярче всего расставание с «духовной картиной» мира описано в многократно премированной повести 1998 года Oceanic).
Но давайте ближе к «Карантину»: это второй, 1992 года издания, роман писателя и первая проба в жанре «твердого» сай-фая. С него отечественный читатель и начал знакомиться с Иганом: пять лет спустя роман перевели и издали — вместе с пригоршней рассказов.
В основе «Карантина» — интерпретация квантовой физики по версии фон Неймана-Вигнера. В этой версии волновая функция объекта (его квантовое состояние) не может «схлопываться» без участия сознания наблюдателя. То есть без вторжения наблюдающего сознания кот Шрёдингера останется «размазанным» в суперпозиции — живым и мертвым одновременно.
Иган берет эту интерпретацию в относительно маргинальном изводе: не как математическое описание, но как отражение реальных физических процессов (дальше спойлеры). По мере развития сюжета «Карантина» (и распространения нейроинфекции) люди обретают способность волюнтаристски схлопывать наблюдаемые объекты и «обналичивать» самые фантастические варианты себя. В результате реальность начинает ветвиться, обнаруживается жуткое множество перемешанных личных миров. Наступает онтологическая анархия, с неба над Гонг-Конгом идет кровавый дождь.
По мере того как главный герой приходит в себя в лагере для беженцев (роман, как часто у Игана, написан от первого лица), вопрос о том, что же произошло (или происходит), кристаллизуется в своей неразрешимости: сохранило ли человечество способность к изменению мира или выбрало коллективное самоубийство, предпочтя общую «чистую», неразмазанную реальность, и почему?
Может показаться, что «Карантин» выворачивает тезис о свободе от общества и жизни в обществе, бредит о риске и безопасности, затрагивая массу прочих животрепещущих тем. Но мне кажется, это больше история о необратимости и принятии того, что каждый из нас уже предпочел. И о том, что лишь наличие подобной необратимости оставляет в жизни место для чуда.
«Повернув голову, я вижу плавающего в воздухе юношу. Обхватив колени руками, он плавно вращается, совершая одно сальто за другим; глаза его закрыты, налицо блаженная улыбка. Публика вежливо наблюдает за его упражнениями, словно это уличный жонглер или акробат на ходулях. Пожилая женщина врастает в землю, ткань ее брюк и кожа на ногах срастаются, делаясь древесной корой. Другая женщина превращается в стеклянную статую. Цвет плоти покидает сначала ее руки и ноги, а затем вовсе исчезает. Какая же версия могла выбрать этот самоубийственный исход? Однако „статуя” деловито направляется прочь, вытянув руки в стороны. Я пытаюсь последовать за этим существом, но оно скоро теряется в толпе.
Я иду дальше».
Роже Кайуа. В глубь фантастического. Отраженные камни. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006. Перевод с французского Н. Кисловой
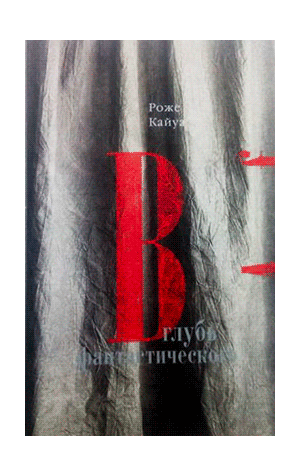 Я дам совет, хотя никто не просит: эта тоненькая книжка — добрый и надежный спутник в долгом (дней от двадцати) автономном походе, желательно по Полярному или Приполярному Уралу, но пространства южнее тоже подойдут. Главное — чтобы под ногами было камней побольше, а людей вокруг — поменьше.
Я дам совет, хотя никто не просит: эта тоненькая книжка — добрый и надежный спутник в долгом (дней от двадцати) автономном походе, желательно по Полярному или Приполярному Уралу, но пространства южнее тоже подойдут. Главное — чтобы под ногами было камней побольше, а людей вокруг — поменьше.
Близкий в молодости к сюрреалистам, коллега Жоржа Батая и один из создателей Коллежа социологии, переводчик Борхеса на французский, Роже Кайуа всегда оставался самостоятельной фигурой, со своим почерком мысли и очень ненасильственным — по отношению к читателю — письмом.
Под одной обложкой собраны не сказать что центральные для автора произведения, однако «Отраженные камни» работают с сюжетом, который занимал Кайуа на протяжении всей жизни. Философ, который умер от болезни, обострившейся на выставке минералов, заворожен миром камней, «полярной противоположностью человека во вселенной», которая тем не менее «говорит самым убедительным языком». Кайуа одержим структуралистской амбицией, в нереализуемости которой он сам себе отдает отчет: «обнаружить, раскрыть [в узорах камней] алфавит (...) Пустая затея. И мне еще слишком везет, если в поисках, никогда не приводящих к цели, случается наткнуться на стихотворение».
В оригинале название позволяет двойное толкование: не только «отраженные», но и «обдуманные», «отрефлектированные». Размышляя над минералами, Кайуа противопоставляет произвольное и фантастическое, что перекидывает мостик к первой работе в этом издании. «В глубь фантастического» — это исследовательский бросок, нацеленный на «определение» и познание плодов художественного воображения, который автор совершает, отметая в сторону все, что относится к «предумышленной фантастике», т. е. к намеренному стремлению удивить зрителя.
Анализируя художественное произведение за произведением, Кайуа приходит к выводу, что «фантастическое высшей пробы» есть необычность, которая не бросается в глаза, «закравшееся тайком» и исчезающее по мере экспансии позитивного знания.
Но где же предел «фантастического», его «глубь», граница с «природным фантастическим» и что побуждает ее искать? Ответ Кайуа таков: нас толкает демон аналогии, искушающий всматриваться в узоры на камнях до тех пор, пока не возникнет эйфорическая иллюзия, что в их создании участвовало творческое начало. Рассуждение органично переходит к миру минералов, связывая произведения, разорванные во времени.
«Я не перестаю повторять:
ФАНТАСТИКА СУЩЕСТВУЕТ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЧИСЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕСКОНЕЧНО, НО ПОТОМУ, ЧТО ОНО ОГРАНИЧЕНО, ХОТЯ И ОГРОМНО. НЕТ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ТАМ, ГДЕ НЕТ НИЧЕГО ИСЧИСЛИМОГО И ПОСТОЯННОГО, А ЗНАЧИТ, ТАМ, ГДЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ. КОГДА ВСЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, НИЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО И НИКАКОЕ ЧУДО НЕ СПОСОБНО ПОРАЗИТЬ. НАПРОТИВ, В РАМКАХ ПОРЯДКА, СЧИТАЮЩЕГОСЯ НЕЗЫБЛЕМЫМ, ГДЕ, НАПРИМЕР, БУДУЩЕЕ НЕ МОЖЕТ ОТРАЖАТЬСЯ НА ПРОШЛОМ, ОЧЕВИДНО ПРОТИВОРЕЧАЩАЯ ЭТОМУ ЗАКОНУ ВСТРЕЧА НЕ ПЕРЕСТАЕТ ТРЕВОЖИТЬ».
 Егорий Простоспичкин. Разговоры с донной Анной. Тверь: Kolonna Publications, Митин Журнал, 2003
Егорий Простоспичкин. Разговоры с донной Анной. Тверь: Kolonna Publications, Митин Журнал, 2003
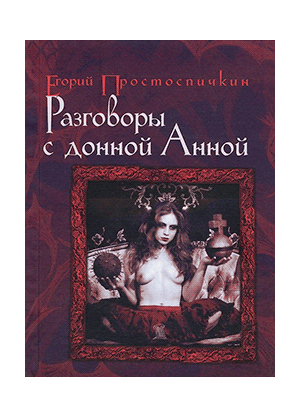 Недавно меня настиг экзистенциальный коллапс: я обнаружил, что сайт «Князя мира» Егория Простоспичкина обновляется, хотя в моем мире между ним и «Коллективом Бесов Андрей Чернов», который умер в 2017 году, стоял знак равенства.
Недавно меня настиг экзистенциальный коллапс: я обнаружил, что сайт «Князя мира» Егория Простоспичкина обновляется, хотя в моем мире между ним и «Коллективом Бесов Андрей Чернов», который умер в 2017 году, стоял знак равенства.
Поясню: я, как и многие, был убежден, что немецкий якобы математик с простой нечеловеческой фамилией Простоспичкин является субличностью, виртуалом Чернова — одного из создателей рунета, автора кодировки KOI8-R, инициатора знаменитого скандала с выкладыванием в сеть «Голубого сала» (после которого Сорокин, по мнению внимательных наблюдателей, стал превращаться из писателя для эстетов в писателя с тиражами). Но помимо заслуг перед русским вебом Чернов был известен как кроулианский маг Ache666, коллекционер хентая, а также своей способностью сводить людей с ума по переписке. Вообще личность выдающаяся, зайди на его страницу, вчитайся — тебе станет не по себе, читатель.
Так вот, Чернов умер в 2017-м, но страница Простоспичкина обновляется и даже твиттер его — с двумя подписчиками — апдейтился 22 марта. А значит, надо допустить, что речь все-таки о разных сущностях. Надо, хотя проще поверить, что Чернов продолжает писать за Простоспичкина уже оттуда, из загробной телемитской черноты.
Наткнувшись на полке на «Разговоры с донной Анной», пережив пресловутый коллапс, я подумал, что из всех изданий Дмитрия Волчека рассказы Простоспичкина относятся к малочисленной категории книг, чей тираж аж с начала нулевых не смог разойтись. «Рассказы» можно купить за 90 рублей почему-то на сайте gay.ru, и это, конечно, странно.
Что не так с сочинениями Егория Простоспичкина и зачем на них обращать внимание кому-либо, кроме археологов рунета и безумных букинистов? Поскольку ответ на первый вопрос — «всё», придется его игнорировать.
Возможно, главное в этих рассказах — торжествующее, саркастическое игнорирование читателя; понять, для кого это написано, невозможно, вероятно, потому что его не существует. Не распознав себя как адресата текстов, человек досужий (молчащее вещество, по выражению Князя) кладет книгу обратно на прилавок. Но стоит признать, что равным образом не существует и автора, иного, кроме предъявляемого в аннотации — «признанного авторитета в области прикладной и теоретической демонологии», чьи тексты за 20 лет не претерпели никаких сущностных изменений.
Наконец, как понимать и надо ли понимать то, что написано, эти людоедско-эзотерические зарисовки с названиями вроде «Гиблое Место или Путешествие к нерестилищу двойных рыб» и «Рабби Гитлер, История из Талмуда». Да, они гомерически смешны, абсурдны, лоскутно сотканы из Кастанеды, готической повести, народных сказаний, графомании и черт знает чего еще, но почему от них так тревожно? Тревога, если Лакан не обманул, никогда не лжет.
Объяснение этому тройному отрицанию, отсутствию читателя-автора-текста, я, как представитель молчащего вещества, вижу лично только одно: на самом деле «Разговоры» написаны ворсами — духами, что кричат и куролесят в лесу, — написаны для самих себя. Бесам бесово, как говорил Чернов.
У Вадима Эпштейна одно время жил скорпион в аквариуме с синей подсветкой. На вопрос, в чем прикол такого сожителя, Вадим отвечал: «Просто всегда чувствуешь, что в комнате находится Чужой». Не скупитесь, купите себе на gay.ru томик за 90 рублей, поставьте на полку — просто чтобы всегда чувствовать: в комнате находится нечто не для вас, не о вас, а скорее сквозь вас и по-над вами.
«Через некоторое, как это называют люди, время после того, как я убил свою жену, примерно в конце апреля 188* года, Иван Денисович, как водится, вызвали меня к себе и сказали так:
— Егорий, скажите по совести, тяжело вам, наверное, без жены?
И поскольку мне в актуальный момент без жены действительно приходилось несладко, я решил искусным образом схитрить:
— Нет, что вы, Иван Денисович, при помощи концентрации на Трансцендентных Идеалах, я добиваюсь свободы от дурных греховных помыслов и мне не тяжело без жены.
— А ведь вы „обманываете” меня! — с негодованием воскликнул Иван Денисович. — Но я не сержусь на вас, потому что на самом деле вы „обманываете“ только себя. А ваше „себя” меня занимает не более какого-нибудь куска пыли.
— Это совершенно естественно, Иван Денисович. Ведь ни вы, ни я не имеем мыслей и мнений и не можем иметь интереса к чему-либо, неизвестному нам доподлинно.
— Это не совсем так. Мы не можем думать, что имеем интерес. Наши действия абсолютно бездумны и всегда правильны. Поэтому мы и поставлены надо всеми людьми. Но не будем сейчас останавливаться на данной парадигме, а вернемся все-таки к вопросу о вашей жене».
Юрий Гагарин, Владимир Лебедев. Психология и космос. М.: Молодая Гвардия, 1968
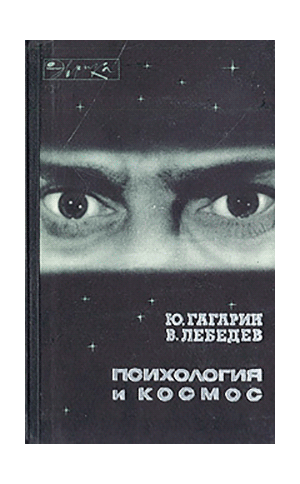 Аннотация книги неизменна во всех переизданиях. Повторим ее и мы — близость смерти облагораживает любую ерунду — «за день до гибели в авиационной катастрофе, 25 марта 1968 года, Юрий Гагарин подписал верстку книги „Психология и космос”».
Аннотация книги неизменна во всех переизданиях. Повторим ее и мы — близость смерти облагораживает любую ерунду — «за день до гибели в авиационной катастрофе, 25 марта 1968 года, Юрий Гагарин подписал верстку книги „Психология и космос”».
Первый человек в космосе выступил соавтором Владимира Лебедева, 32-летнего медицинского психолога, который работал в первом отряде советских космонавтов и после Гагарина готовил к выходу к открытый космос Алексея Леонова. Лебедев понимал, через что проходили его подопечные, поскольку сам прыгал c парашютом, был в барокамере, летал в самолетах, где создавалась ситуация невесомости и т. д.
«Психологию и космос» можно читать как набор занимательных фактов о пределах человеческих возможностей и способности их преодолевать, об «оттачивании воли» в условиях «гибели мира» (описание невесомости людьми со слабым вестибулярным аппаратом), о том, как многодневная изоляция сводит с ума крепких мужчин, пребывание в сурдокамере пробуждает творческие способности, утрата притяжения нарушает мелкую координацию (делая недоступным, например, навык письма) и т. д. и т. п.
Но, мне кажется, важнее заметить, каким языком написана «Психология и космос». Это успокаивающая речь эпохи космического оптимизма, когда в свете успехов на земной орбите и коммунизм на Земле стал (вновь?) казаться реальным и достижимым. Достижимым, если правильно, с полной самоотдачей готовиться — как готовились к полету первые космонавты. И хотя советские люди вряд ли были готовы к такой самоотдаче (скорее нет, чем да), можно представить, насколько лучистым мог казаться скуповатый текст о тяготах становления простым сверхчеловеком, насколько росло и крепло убеждение, что «нас всех готовят в космонавты», — аж двести тысяч экземпляров книги пришлось допечатывать.
![]() Это убежденность чувствуется до сих пор. Нас всех готовили в космонавты, но космоса на всех не хватило.
Это убежденность чувствуется до сих пор. Нас всех готовили в космонавты, но космоса на всех не хватило.
«Был случай, когда участник эксперимента потребовал через 22 часа выключить телевизор, так как от него якобы исходил невыносимый жар. Как врач ни успокаивал его, летчик добился, чтобы телевизор выключили, и сразу же почувствовал себя лучше. Когда аппарат снова включили, он отнесся к этому довольно спокойно, но через три часа все повторилось. Теперь летчик даже отыскал причину повышения температуры, показав „черное, прогоревшее место” на экране, и вновь потребовал, чтобы его „освободили”, потому что он не в силах выдержать такого мучения.
Подобных примеров множество. Они убеждают в том, что мирная тишина и одиночество таят немалую угрозу психическому состоянию человека».
Франсуаза Барб-Галль. Как говорить с детьми об искусстве. СПб.: Арка, 2010
 Французский историк искусства, почти тридцать лет проработавшая в Школе Лувра, известна как автор многочисленных научно-популярных книг об искусстве. И хотя с момента первой публикации «Как говорить с детьми об искусстве» спектр подобных пособий на русском многократно расширился, работа Барб-Галль остается одной из лучших (и многократно переизданных).
Французский историк искусства, почти тридцать лет проработавшая в Школе Лувра, известна как автор многочисленных научно-популярных книг об искусстве. И хотя с момента первой публикации «Как говорить с детьми об искусстве» спектр подобных пособий на русском многократно расширился, работа Барб-Галль остается одной из лучших (и многократно переизданных).
В чем суть? На первый взгляд это книга для взрослых о том, как говорить с детьми о непонятном. Но это не в меньшей степени книга вне возраста — для тех, кто приучился не задавать самоочевидные вопросы о том, что они видят. Несмотря на дидактичную постановку задачи, повествование демократичное и простое (снобы скажут «простоватое»).
Оно разбито на три части. Первая — советы о том, как ходить с детьми в музеи и на что обращать внимание в зависимости от возраста (Барб-Галль выделяет три группы: 5–7, 8–10, 11–13 лет). Вторая — ответы на детские вопросы о живописи вообще: а ля «Почему в музеях так много старинных картин на религиозные темы?» или «Что такое портрет?». Третья — беседы о тридцати картинах в формате вопросов и ответов; обсуждаются произведения XV–XX века, в диапазоне от Фра Анжелико до Георга Базелица.
Чем хороша книга Барб-Галль? Во-первых, она избавляет от иллюзии, что «классическое», «традиционное» искусство понятно само по себе — лишь в силу своей реалистичности. Историк показывает, что «обычная» живопись, как и «современное искусство», — это всегда язык, который требует знакомства с определенным словарем, и словарь этот не прилагается автоматически к способности распознавать знакомые образы.
Во-вторых, книга снимает с искусства флер таинственности, «музовдохновенности», заземляя его и укореняя в повседневности, в эмоциях, в фактах биографии художников и социальном контексте. «По-простому», объясняя мешанину образов на холсте Баския через густонаселенность Нью-Йорка или выбор Ивом Кляйном синего цвета через ассоциации с его родной Ниццей, автор, возможно, совершает не самые сложные интерпретативные ходы. Но не снимают ли они почтительно-отупляющую дистанцию с произведением, не служат ли прообразами для более закрученных рассуждений?
Вообще-то — да, вполне.
«Почему лицо женщины похоже на маску?
Френсис Бэкон не превращает лицо своей модели в маску. Напротив, он манипулирует с ним, производит своего рода пластическую операцию, чтобы показать одновременно и внешний облик Изабеллы Росторн, и то, что скрывается за ним — или под ним. Он снимает с лица слой за слоем. Плоскости цвета выглядят как подрезанные и отогнутые участки кожи, оголяющие плоть. Зеленый, белый, розовый — это, вероятно, нервы и сухожилия. Художник проникает все глубже, он не остановится, пока не удалит с лица все внешние покровы, пока не обнажит его до конца. Только в этом смысле можно говорить о маске: если раньше она закрывала лицо, то теперь она сорвана. Это портрет человека страдающего. Это боль не одной лишь Изабеллы Росторн, а всего человечества: такой ее воспринимает художник».