Как древние греки говорили правду и заботились о себе — и почему мы так не умеем
О книге Мишеля Фуко «Речь и истина. Лекции о парресии (1982–1983)»
Мишель Фуко. Речь и истина. Лекции о парресии (1982–1983). М.: Издательский дом «Дело», 2020. Содержание
Продолжение «античного триптиха»
 В книгу вошли тексты лекций, прочитанных Мишелем Фуко в Калифорнийском университете в Беркли (октябрь—ноябрь 1983-го), и предварявшее этот лекционный цикл выступление 1982 года в Гренобле. Полная расшифровка стенограммы публикуется на русском языке впервые, перевод Дмитрия Кралечкина.
В книгу вошли тексты лекций, прочитанных Мишелем Фуко в Калифорнийском университете в Беркли (октябрь—ноябрь 1983-го), и предварявшее этот лекционный цикл выступление 1982 года в Гренобле. Полная расшифровка стенограммы публикуется на русском языке впервые, перевод Дмитрия Кралечкина.
Ранее — в 2008 году — в журнале «Логос» выходил обширный конспект этих лекций под названием «Дискурс и истина» (перевод Андрея Корбута), на английском их впервые издали в 2001 году («Fearless Speech» («Бесстрашная речь») под редакцией Джозефа Пирсона), а лекцию, прочитанную в Гренобле, опубликовали и вовсе относительно недавно — в 2012 году в журнале об античности «Anabases».
Тема парресии, «говорения всего», чреватого серьезными последствиями, такими как изгнание или смерть, звучит сильной долей и в предыдущих циклах лекций, начиная с «Герменевтики субъекта» (1981–1982), продолжаясь в «Управлении собой и другими» (1982–1983) и «Мужестве истины» (1983–1984).
Как отмечает Юлий Асоян, Фуко «рассматривал названные курсы как одно продолжающееся целое — не случайно он назвал их своим античным триптихом».
«Во всех трех курсах Фуко... неуклонно развивает тему заботы о себе, которая... оборачивается разными гранями... Термин parresia почти неожиданно появляется в середине „Герменевтики субъекта”. Но уже начало курса потенциально содержит проблему мужества истины, так сказать, чревато ею. Уже в первой лекции Фуко говорит о высказывании истины как о преобразующем и формирующем субъективность акте...»
Публикация цикла «Речь и истина» расширила триптих до полиптиха. Примечательно, что тексты Фуко о парресии — преимущественно артикулируемом высказывании — так и остались записью устных выступлений. «Лишь скоропостижная смерть Фуко помешала придать этим исследованиям достоинство письменной речи», — отмечает французский философ Фредерик Гро в предисловии к книге.
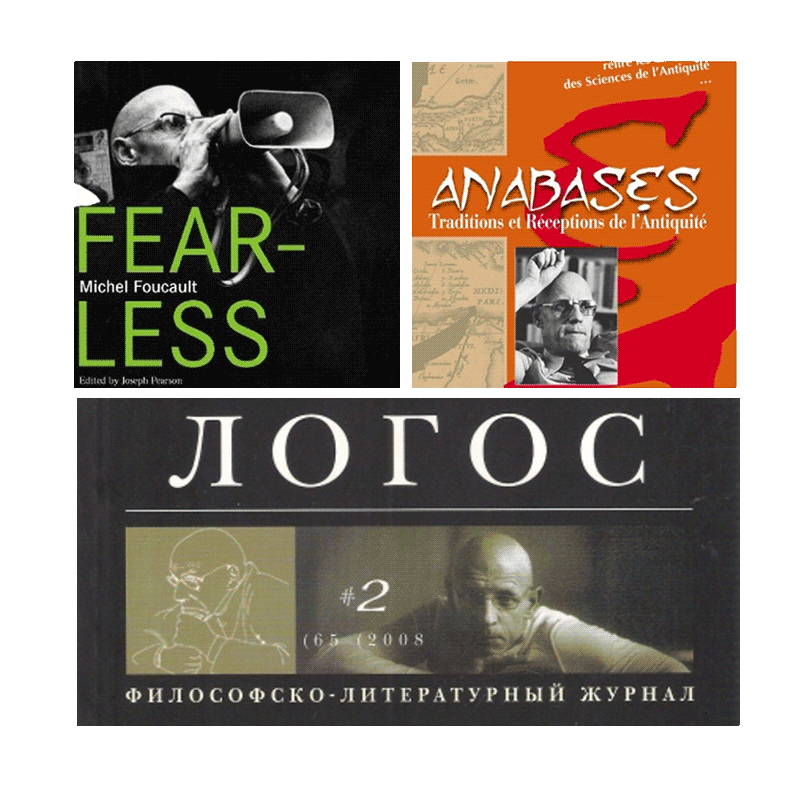 Движение по осям
Движение по осям
Как парресия связана с формированием субъектности? В цикле «Управление собой и другими» Фуко напоминает о своем исследовательском интересе к темам «безумия, преступности, сексуальности» и говорит, что изучает их «согласно трем осям: формирования знания, нормативности поведения и конституирования способов быть».
Упрощенно говоря, сначала формируется знание (в самом широком смысле), задающее нормативность. В соответствии с этой нормативностью субъект выстраивает себя, познает себя, управляет собой. Субъект — финальное звено цепочки знание → нормативность → конкретный способ быть. Знание у Фуко концептуально сопряжено с властью.
Далее по каждой из осей Фуко осуществляет теоретические сдвиги. Первая ось традиционно представляется как история развития знания в целом. Философ говорит: нет, есть «отдельные дискурсивные практики и история (или истории? — прим. ред.) форм веридикции» («говорения истины» — термин Фуко). Ниже мы приведем пример того, насколько отношение древнего грека к истине было не похоже на наше.
Второй сдвиг — по оси нормативности. Его Фуко совершает, отбрасывая «всеобщую Теорию Власти» и пытается «заняться историей и анализом процедур и технологий управления» (власть господствующая → дисциплинарная → биополитика).
Третье перемещение — уход от общей теории субъекта к рассмотрению отдельных типов субъектности и их различия в контексте историчности, разных прагматик и техник отношения к себе, управления собой и другими — разные «заботы о себе».
«Высказывание правды, обязанность и возможность говорить правду» в этом обширном исследовательском проекте Фуко занимает одно из ключевых положений. Не в последнюю очередь посредством «говорения истины» или отношения к тому, что говорят начистоту о самом индивиде, формируется его субъектность.
Человек и пароход. Но не кентавр
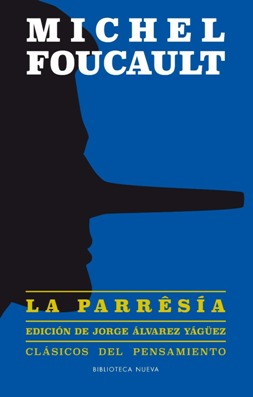 В цикле «Речь и истина» Фуко прослеживает генеалогию понятия «парресия» в последовательности политика → этика→ философия.
В цикле «Речь и истина» Фуко прослеживает генеалогию понятия «парресия» в последовательности политика → этика→ философия.
Возможность применять парресию в связи со статусом (нужно быть гражданином полиса, совершеннолетним, не-рабом) — это политическая история.
Этическая — учительство и наставничество. Философ выделяет здесь три модели: эпикуреизм (восхваление роли учителя и взаимная откровенность между учениками), стоицизм (дуальность отношений: длительная дружба с регулярными откровенными беседами или перепиской) и кинизм (провокативность, скандальность, разоблачение социальных условностей).
Взаимоотношение парресии и философии как «искусства жизни» Фуко иллюстрирует историей о Сократе: «он был включен в традицию... мудрецов греческого общества... но играл роль и парресиастического человека». Получается сочетание пусть и не противоположных, но разных модальностей (рискнем предположить, что речь идет о переключении опций «мудрец» / «парресиаст» в разных ситуациях).
Сократ в этом отношении — и человек, и пароход, но никак не «человеко-пароход», что бы ни рисовала фантазия. Не кентавр.
«Будь душа у меня золотая...»
Итак, «забота о себе». С точки зрения древнего грека эта этическая установка, нацеленная на «управление собой» в соответствии с нравственными ценностями и рациональными принципами, не реализуется без «познания себя» (gnōthi seauton, Γνῶθι σεαυτόν). А заниматься самопознанием исключительно в одиночку не следует (похоже на неприятие самоанализа в психоаналитической практике — прим. ред.), потому что легко скатиться в самодовольный нарциссизм и прочие не самые эффективные установки.
 Древнеримская мозаика с греческой надписью Γνῶθι σεαυτόν, «познай самого себя»
Древнеримская мозаика с греческой надписью Γνῶθι σεαυτόν, «познай самого себя»
Для адекватного самопознания нужен другой, который не винной гущей помажет (говорят, эту субстанцию использовали, чтобы скрыть лицо во время эксцентричных празднеств, посвященных, например, Дионису, — прим. ред.), а правду скажет — парресиаст.
И придется постараться, чтобы его найти. Парресиаст — это не профессия, не звание, не общественный статус.
Что интересно, возможности быть паррериастом лишены и царь, и раб — первый по причине высокого положения и отсутствия рисков (если ничего не грозит за сказанное — это уже не парресия), второй — по причине подчиненного положения и отсутствия гражданских прав.
В цикле «Управление собой и другими» Фуко ссылается на «Трактат о страстях» и говорит, что его автор — Гален — «не считает специалистом... этого другого, к которому надо обратиться — будь то... врач или философ... Речь идет о том, чтобы обратиться к любому человеку, лишь бы он был достаточно зрелым и достаточно хорошей репутации, а сверх того обладал определенной добродетелью. Эта добродетель — parresia, свобода речи...»
«Хороший парресиаст — человек, с которым у вас прежде не было никаких отношений...»
Парресия сопряжена с искренностью, критикой, опасностью и долгом. Например, гражданин полиса считает должным критиковать представителя власти, если его поступки не соответствуют нравственному порядку. Это всегда риск — последствия могут быть очень серьезными: ему грозит наказание в виде изгнания или даже смерти. Однако «хороший правитель — тот, кто принимает все, что говорит ему парресиаст, даже если ему неприятно выслушивать критику. И в то же время он показывает себя в качестве тирана, если наказывает за сказанное».
Фуко приводит в пример текст «Горгий», отрывок, относящийся к «моменту... выхода на сцену Калликла, который, перечислив слабые места в речах Горгия и Пола, говорит: ладно, я скажу, скажу все до конца, не буду стесняться и робеть, как предыдущие ораторы. И он объясняет, как и почему можно творить несправедливости, не нарушая принципов разума...»
После этого Сократ обращается к Калликлу:
«— Будь душа у меня золотая, Калликл, обрадовался бы я или нет, как по-твоему, если б нашел один из тех камней, которыми берут пробу золота... а потом приложил бы к нему свою душу, и, если бы он подтвердил, что душа ухожена хорошо, мог бы я знать это наверное и другого пробного камня уже не искать?
— К чему ты клонишь, Сократ?
— Сейчас объясню. Мне кажется, что такую счастливую находку я и сделал [то есть нашел камень, который позволит испытать его душу. — М.Ф.], встретившись с тобой.
— Как так?
— Я полагаю, чтобы надежно испытать душу, правильно она живет или нет, надо непременно обладать знанием (epistēmē), доброжелательством (eunoia) и прямотой (parrēsia), и [как я вижу. — М.Ф.] ты обладаешь всеми тремя. Я часто встречаю людей, которые не могут меня испытывать по той причине, что не умны — в отличие от тебя...»
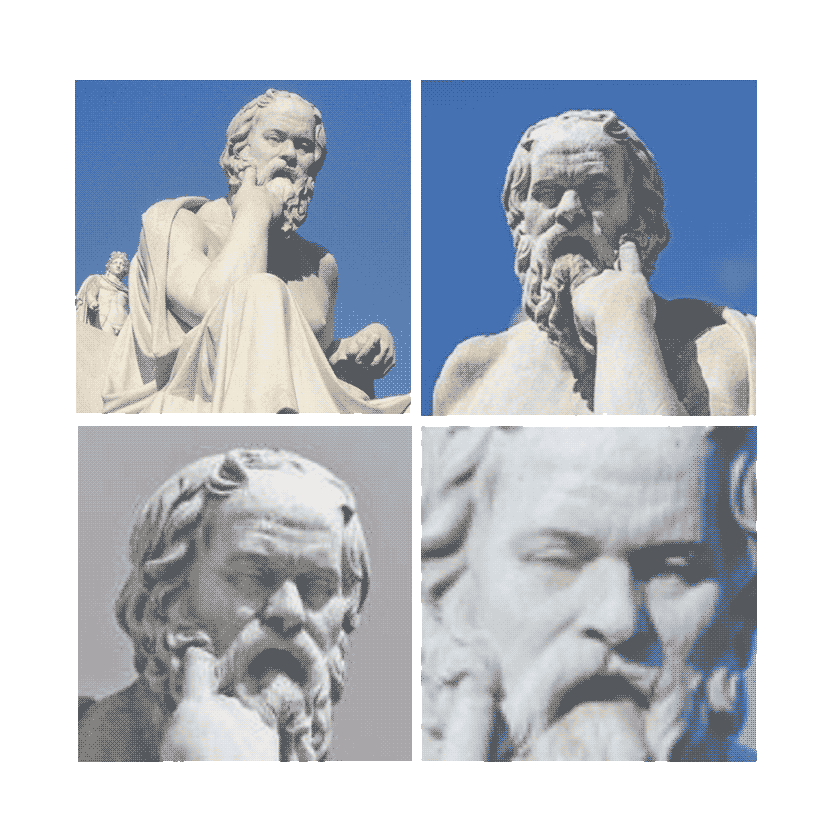 Бахвальство и холодные ванны
Бахвальство и холодные ванны
Парресия противопоставляется риторике, это не рациональное доказательство и не диатриба (хотя схожие черты имеются). И уж ни разу не речь льстеца.
Цитата из другого текста:
«Всякий раз, когда вы слышите, что многие хвалят некоего человека в городе, который якобы никому не льстит, то вначале установите, является ли он на самом деле тем, кем его представляют. Если вы увидите, что он все время проводит в домах богатых и могущественных людей, а иногда даже и царей, то имейте в виду: все, что вы услышали о нем, — неправда, ведь только лесть могла привести его туда...
Всякий выбирающий подобную жизнь не только не говорит правду, но, кроме того, предстает как совершенно порочный человек, любящий сильных мира сего и все, что этому миру соответствует: богатство, власть, почести, высокое положение в обществе...»
Гален, «Способ распознавания и лечения страстей, в том числе и своей собственной души»
Фуко ссылается также на трактат Плутарха «Как отличить друга от льстеца». Философ называет это сочинение «техническим», отвечающим задаче поиска истинного парресиаста.
«Все было бы очень просто, если бы льстецы были известны, если бы это просто были люди, которые хвалят вас ради того, чтобы их позвали на ужин... Навык хорошего льстеца заключается... в том, чтобы как можно больше походить на парресиаста. Настоящий льстец должен, как и парресиаст, быть тем, кто будет говорить вам неприятные вещи, кто скажет вам все как на духу и при этом на самом деле вполне может быть льстецом».
Тогда по каким критериям узнают льстивые речи? По мнению Плутарха, яркий признак — отсутствие четких правил поведения:
«Льстец берет пример то с одного, то с другого; он не является ни простым, ни единым, он составлен из разнородных и разнобойных частей; льстец — он как жидкость, которая переходит из одной формы в другую в зависимости от сосуда, в который ее наливают...
...Свидетельством является поведение больших льстецов и демагогов, величайший из которых — Алкивиад: в Афинах он устраивал розыгрыши, разводил лошадей и вел жизнь духовную и изящную. В Спарте стал груб, носил плащ и принимал холодные ванны. Во Фракии воевал и пьянствовал, а прибыв в Тиссаферн был сама роскошь, расслабленность и бахвальство, но всегда искал популярности и набирал голоса большинства, отождествляясь с ним и ему уподобляясь. Не так было с Эпаминондом или Агесилаем. Они, будучи знакомы с множеством людей, полисов и образов жизни, везде сохраняли один и тот же способ существования (ēthos), который подходил им в одежде, режиме (diaitē), языке (logō) и их образе жизни (biō)».
Кошка ищет «целебную травку»
— а душа занятого «заботой о себе» — парресиаста. Он даст истинную — эта характеристика особенно примечательна — оценку желающему жить правильно.
Логично задаться вопросом: откуда такая уверенность в истинности этой оценки? Человек несовершенен, а ошибаться может даже мудрец — примерно такие шаблоны мышления подсказывает нам «здравый смысл». Фуко говорит, что в Древней Греции так вопрос не ставился:
«...Полагаю, было бы интересно сравнить греческую парресию и нововременную, картезианскую, очевидность. Со времен Декарта совпадение убеждения и истины должно, с нашей точки зрения, достигаться в определенном ментальном опыте, которым является очевидность. С точки же зрения греков, совпадение убеждения и истины достигается... в речевой деятельности, которую и представляет собой парресия...»
Убеждения паррисиаста истинны. «И не только для него, они просто истинны. Это и есть парресия».
Фуко делает вывод — «она (парресия — прим. ред.) не может состояться в нашей эпистемологической рамке, сложившейся с Декарта».
Но не потому, что невозможна обличительная речь, которую произносят, рискуя здоровьем. А по причине принципа радикального сомнения, который завещал всем нам Декарт вместе с cogito ergo sum.
Песьи модуляции
Всегда ли парессия — это артикулированная речь? Может ли парресиаст отказаться говорить?
Отвечая на аналогичный вопрос из аудитории, Фуко делает неожиданный поворот:
«Тогда это уже не парресия, а мудрость. Нет, я говорю совершенно серьезно. Позже вы увидите: различие между парресиастом и мудрецом в том, что мудрец вообще не обязан говорить».
Философ приводит в пример невербальные парресиастические установки киников.
«Киники не пользуются словами, но речь идет о чем-то вроде японского коана: это что-то значит, тогда как другие должны выяснить, что именно».
 Фуко вспоминает хрестоматийную историю встречи Диогена и Александра:
Фуко вспоминает хрестоматийную историю встречи Диогена и Александра:
«Он (Диоген — прим. ред.) являет собой типичного парресиаста, когда говорит, что предпочитает собачью жизнь царской. И когда он говорит Александру: „Не загораживай мне солнце!”, „Подвинься!”, он тоже самый настоящий парресиаст. Но это совершенно особая форма парресии, решительно отличающаяся от платоновской и характерная именно для кинической школы: немногословная, всегда связанная с определенным физическим и социальным жестом и при этом соотносимая с установкой на скандал...»
«... Порой киники применяли парресию, сближая два типа правил, которые казались противоречащими или далекими. Взять, к примеру, удовлетворения телесных потребностей. Вы едите, и в том, чтобы есть, нет ничего скандального. Вы можете есть на публике, хотя в Греции это не вполне очевидно... Диоген ел на agora (рыночная площадь в древнегреческих полисах — прим. ред.). А поскольку он ел на agora, не было причин, чтобы не мастурбировать на ней же, ведь в обоих случаях речь идет об удовлетворении определенной телесной потребности. Было много других техник, я не хочу ничего умалчивать, скрывать какой-то из этих прекрасных приемов...»
«... Первая историческая ссылка на Диогена обнаруживается у Аристотеля — в тексте, где он называет его даже не Диогеном, а просто „Псом”».
Просвещение и отвага
Итак, парресия — это об истине, искренности, критике, долге и риске. Это высказывание, на которое не каждый отважится. Такую речь не дозволено держать несовершеннолетним, рабам и идиотам. Парресия трудна — и для того, к кому она направлена (нужно мужественно принять нелестную критику), и для того, кто ее применяет (по многократно названным выше причинам).
Ранее мы приводили слова Фуко о том, что парресия после Декарта нам заказана. Отсюда можно сделать далеко идущий вывод, что невозможна более и истина. Но этого мы делать не будем, потому что это не так (хотя бы по причине многозначности понятия).
Вместо этого попытаемся пройти немного по направлению, заданному Фуко, оперевшись на мнение Александра Смулянского о том, что «речь от эпохи к эпохе не является одним и тем же».
Философ утверждает, что от современного субъекта речь буквально требуют — он должен высказываться и странным образом «не может молчать». Эта ситуация во многом противоположна античности, когда право говорить было далеко не у каждого — рабы и несовершеннолетние юноши им не обладали. В этом состояло их преимущество — они могли слушать, набираясь разума, и:
«...пользоваться роскошью молчания. Когда же снимаются классовые барьеры, возникает не рост возможностей высказываться, а всего лишь рост требования, которое, лишенное препятствий классовых перегородок, начинает пронизывать все общество целиком. Не такая уж это большая роскошь — высказываться».
Исторически перемены философ связывает с эпохой Просвещения, когда начало настоятельно проявляться никем не озвученное требование:
«...высказываться, приобретать образование, получать знания, публиковать энциклопедии, читать энциклопедии, переиздавать энциклопедии...
Даже в эпоху... схоластики близко ничего подобного не было. Принято считать,... что якобы в Средневековье рот без причин раскрывать было нельзя. Если ты считал себя философом, тебе предстояло поначалу сломить свою гордыню, пойти в цеховое обучение к другим богословам и научиться сначала переписывать, потом делать заметки на полях, потом пересказы и только потом ты получал право на свой трактат.
Но я полагаю, что так происходило не потому, что имели место жесткие репрессии и подавление — заметьте, в то время не было централизованной репрессивной власти, которая появляется как феномен именно просвещенческой эпохи. В то время не было дисциплинарного общества контроля, которое описывает Фуко как примету современности. В довольно атомизированном средневековом обществе, когда никому ни до кого не было дела, и в котором были позволены самые разные формы самовыражения (было бы желание), никто никому высказываться не запрещал...
Но ничего такого не происходило либо мы не знаем об этом. Во всяком случае, не похоже, что средневековый субъект был одержим желанием сказать. Это означает, что не похоже, что от него этого кто-то требовал...»
Сидоров, аутисты и Сектор Газа
Философ приводит в пример практику тостов (ситуация очевидного принуждения), школьные сочинения («странный феномен современности — требование высказаться, обращенное к ребенку») и в целом «традиции общества... где необходимость высказываться была поставлена на поток»:
«... Вопрос не в том, что субъекта заставляют говорить на определенные темы... речи определенной, по каким-то лекалам — например, правильной партийной. На самом деле требуют речи как таковой... которая была бы выражением якобы вашего мнения. От вас требуют образования, подкованности, осведомленности о том, что происходит в Секторе Газа, хотя не факт, что вам это нужно... От вас требуют много всего того, что вписано в школьную программу, начиная с самых ранних лет и до самой смерти... От вас ожидается высказывание в любом случае.
И на фоне этого диктата — очень сильного и в то же время незаметного — любая диктатура пролетариата должна казаться мелкой, чисто случайной и очень быстро себя исторически исчерпывающей.
...Сидорову из рабочей ячейки предлагают свободно высказать свое мнение насчет буржуазных злоупотреблений товарища. Предполагается, что здесь есть какая-то фальшь. Очевидно, что Сидоров должен говорить в соответствии с последними партийными распоряжениями — иначе он навлечет на себя те же неприятности, что и проштрафившийся товарищ. Но когда говорят, что под личиной свободного высказывания от субъекта требуют определенных обличительных речей, здесь можно совершить деконспирологизацию, устранить это подозрение и критику и показать, что на самом деле здесь не лгут.
 От субъекта действительно требуют любого высказывания (не важно, будет оно свободным или нет), даже если оно будет свободным, диктат все равно никуда не денется — вот о чем как бы говорит секретарь партячейки. Поэтому когда тебе предлагают свободно высказаться на заседании партии, проблема не в том, что ты не можешь свободно сказать, а в том, что тебе высказываться нужно обязательно — окажись ты в другой ситуации, сам диктат необходимости высказаться никуда бы не делся. Поступитесь ли вы совестью или нет, в любом случае, есть такой субъект требования, который от вас этой речи ожидает, — диктат интеллигентского сознания и высоких морально-этических требований, которые налагаются на членов их группировки ничуть не менее жестко, чем диктат партийной линии...»
От субъекта действительно требуют любого высказывания (не важно, будет оно свободным или нет), даже если оно будет свободным, диктат все равно никуда не денется — вот о чем как бы говорит секретарь партячейки. Поэтому когда тебе предлагают свободно высказаться на заседании партии, проблема не в том, что ты не можешь свободно сказать, а в том, что тебе высказываться нужно обязательно — окажись ты в другой ситуации, сам диктат необходимости высказаться никуда бы не делся. Поступитесь ли вы совестью или нет, в любом случае, есть такой субъект требования, который от вас этой речи ожидает, — диктат интеллигентского сознания и высоких морально-этических требований, которые налагаются на членов их группировки ничуть не менее жестко, чем диктат партийной линии...»
В Новое время появляются игрушки, издающие звуки при нажатии («это иллюстрирует ситуацию, в которой мы находимся — на субъекта нажимают»), а поскольку «требование имеет место, субъект начинает уходить в отказ» — педагоги и психологи с ужасом констатируют, что «речь дается все хуже» даже здоровым детям, не говоря уже об аутистах.
«Требование речи» от современного субъекта, по мнению Смулянского, исходит из бессознательного. Аналогия: сеанс в кабинете психоаналитика, когда анализант начинает говорить что-то, что Фрейд назвал бы речью «системы Восприятия-Сознания», а аналитик ему не отвечает, чтобы вызвать перенос, необходимый для «лечения речью». Анализант считает важным высказать свои политические убеждения, или поделиться воззрениями на семейную жизнь, или рассказать о несправедливом к нему отношении и проблемах на работе (типичный багаж прилегшего на кушетку) — и успокоительного ответа не получает, закипая все больше и больше. Так происходит до тех пор, пока речь первого порядка не иссякает, высвобождая другую, что-то о симптоме аналитику сообщающую.
Так вот, характеризующее современность «требование речи», начавшееся не вчера и не позавчера (путь от интеллектуальных кафе XVIII века до современного активизма в соцсетях и на площадях — одна дорога), подобным образом, по мнению Смулянского, какую-то другую речь затыкает. «Требование призвано желание прикрыть», — говорит Александр Ефимович.
Что это за желание? Что могла бы нам сообщить речь второго порядка? Откуда исходит это требование, от которого современному субъекту не уклониться? Пока больше вопросов, чем ответов. Александр Смулянский, что интересно, ссылается на Мишеля Фуко:
«Не все можно объяснить — и не только потому, что исследование еще продолжается. В своей ранней работе „Слова и вещи“ Фуко развивает три парадигмы, он говорит, что было три эпохи: символическая, номенклатурная и современная гуманитарная.
Эпохи сменяют друг друга по причине событий, которые Фуко не характеризует и предупреждает, что заниматься этим он не будет. Он — Фуко — не знает, почему магическое средневековое мышление вдруг сменяется номенклатурностью и рациональностью линнеевских или картезианских построений. И он имеет право этого не знать и вообще этот вопрос не исследовать: его интересует феноменологическое описание ситуации.
Я так же претендую на феноменологическое описание требования. Мы его видим, оно имеет следствия, мы его описываем. Мы поступаем как Фрейд, который зачастую не давал объяснения бессознательному. Он пытался, но все его топики были не очень хороши, он их потом отвергал. Но он констатировал, что бессознательное есть, оно проявляет себя в последействии, у него есть эффекты. Собственно, больше Фрейду ничего не было нужно. Фрейда интересовал сам факт, что имеют место какие-то изменившиеся обстоятельства. И он о них свидетельствовал.
Трудно сказать, кто формулирует требование. С точки зрения Лакана, оно не формулируется, а возникает по причине отщепления от желания — это процесс структурный. Но в любом случае, мы это требование видим, у него есть последствия — мы замечаем его сокрушительное раздавливающее субъекта действие. И констатируем это.
Тем более ничего подобного нигде не рассматривается. Мы находимся в ситуации, в которой нас со всех сторон убеждают, что то, что нас окружает, — это коммуникация. Нам кажется, что мир, который нам известен, представляет собой мир сообщительности.
О требовании речи вообще не идет».