Как Бонапарт из мыслителя превратился в тирана
О книге Артема Кротова «Наполеон и философия»
Артем Кротов. Наполеон и философия. СПб.: Владимир Даль, 2021. Содержание
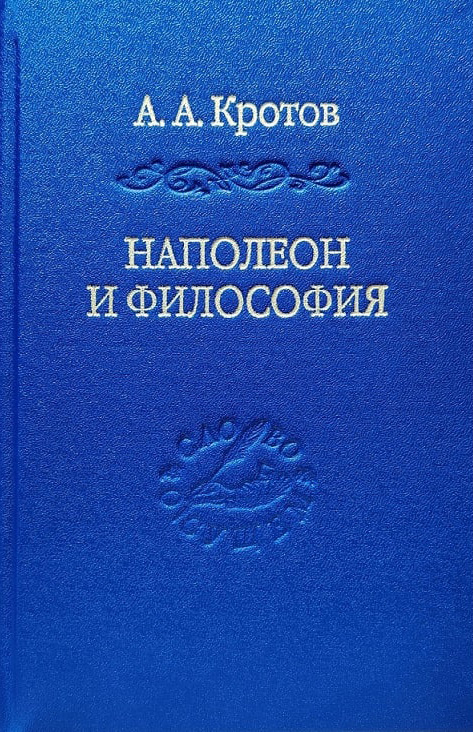 Наполеон — один из самых изученных персонажей мировой истории. Распространено мнение, что только про Христа написано больше, чем про императора французов. Но кем Наполеона видят потомки? Наверное, военным гением. Радикальное «облегчение» артиллерии ради ее большей мобильности, новаторское применение резерва, использование сверхманевренных корпусов на марше, — все это создало ему славу лучшего полководца Нового времени. Также Бонапарт — великий государственный деятель, создатель нового типа авторитарного правления, которое наследует римской диктатуре и задает траекторию персоналистских режимов ХХ и ХХI веков.
Наполеон — один из самых изученных персонажей мировой истории. Распространено мнение, что только про Христа написано больше, чем про императора французов. Но кем Наполеона видят потомки? Наверное, военным гением. Радикальное «облегчение» артиллерии ради ее большей мобильности, новаторское применение резерва, использование сверхманевренных корпусов на марше, — все это создало ему славу лучшего полководца Нового времени. Также Бонапарт — великий государственный деятель, создатель нового типа авторитарного правления, которое наследует римской диктатуре и задает траекторию персоналистских режимов ХХ и ХХI веков.
Парадоксальным образом Наполеон играет огромную роль и в распространении идеи свободы. На солдатских сапогах он разнес по Европе завоевания Французской революции и стал образцом сверхчеловека для тысяч и тысяч Жюльенов Сорелей и Родионов Раскольниковых. Он показал, что можно подняться на вершины власти не по капризной склонности высокопоставленного патрона, но в силу упорства и несокрушимой воли. Мы знаем Наполеона — пылкого любовника, покровителя наук, выдающегося инженера. Есть даже исследования, посвященные Наполеону-библиофилу. Но что нам известно об отношении Наполеона к философии и даже о Наполеоне как философе? Этому вопросу посвящена книга профессора МГУ Артема Кротова.
Сразу хочется сказать, чем эта книга не является. Это не жизнеописание Наполеона с акцентом на его философских увлечениях. Биография императора французов и так очень подробно изучена. Книга также не касается фигуры Гегеля, который видел в Наполеоне своего «двойника» (по его мнению, Наполеон завершает собой историю сознания, а он, Гегель, — историю самосознания) и, как пишет неогегельянец Александр Кожев, мог надеяться стать придворным мудрецом императора.
«Наполеон и философия» рассказывает нам в первую очередь о контексте, в котором рос, шел к власти, а потом правил Бонапарт, и о его отношении к этому контексту. Вольтер, Руссо, Монтескьё, Дидро, Ламетри, — этих мыслителей полезно вспомнить, если мы хотим понять интеллектуальную среду, в которой юный Наполеон начинал осознавать себя всемирно-исторической личностью. Очень уместным выглядит в этом ряду и Фридрих Великий, военный талант которого соединялся с интересом к современной философии. Фридрих и сам не боялся писать — и стихи, над которым посмеивался Вольтер, и философскую прозу, в которой пытался опровергать макиавеллизм в политике и материализм в метафизике.
Писал и молодой Наполеон — страницы, посвященные его юношеским сочинениям, можно назвать самыми увлекательными в книге Кротова. Заглянуть в голову семнадцатилетнему выпускнику военной школы, который вскоре станет самым могущественным человеком в мире, — бесценный опыт. Вот он пишет о народе родной Корсики — о людях, «униженных более, чем животные», но при этом пламенных патриотах, подобных древним римлянам. Вот он, вторя Руссо, объявляет народ носителем суверенитета, а государя, ставящего своей целью что-то иное, кроме счастья подданных, — узурпатором. А вот он пишет: «Всегда одинокий среди людей, я возвращаюсь, чтобы мечтать с самим собой и со всей живостью предаваться моей меланхолии» — и здесь же, охваченный этой самой меланхолией, размышляет, не наложить ли на себя руки, ведь «когда родины больше нет, хороший патриот должен умереть».
Нет ничего интереснее, чем сравнивать мысли молодого человека с поступками мужчины. Горячий патриот маленького, но гордого народа корсиканцев — во время революционных войн он станет давить федералистов в Тулоне. Меланхоличный юноша в военной школе — в эпоху консульства он издаст специальный приказ по гвардии, объявляющий суицид позорным проявлением слабости. Вольнодумец, всем сердцем любивший Руссо, в период империи будет преследовать всякую свободную мысль.
Занимал ли молодого Наполеона вопрос о любви? Еще как! Бонапарт порицает «галантную» любовь, которая в современной ему иерархии ценностей потеснила любовь к родине. В платоническом по форме «Диалоге о любви» герой стыдит своего товарища, который, влюбившись, потерял голову и совсем перестал думать о судьбах Франции: нежный взгляд и поцелуй значат для него теперь больше, чем нужды его страны. Вот что пишет о романтической любви двадцатидвухлетний Наполеон, и сколько юношеской тоски можно расслышать в этом резком утверждении!
«Я считаю ее вредной для общества, для индивидуального счастья людей, наконец, я полагаю, что любовь приносит больше зла... и что было бы благодеянием защищающего божества избавить нас от нее и освободить от нее мир».
Ранние сочинения дают нам ясный и неожиданный образ молодого Наполеона — восторженного, пылкого, склонного к уединению и меланхолии. Жозеф Бонапарт вспоминал, что во время отпуска брата они каждый день обсуждали вынашиваемые им тексты, причем эти разговоры могли продолжаться до глубокой ночи. Секретарь императора Клод Франсуа Меневаль так отзывался об одном из его ранних сочинений:
«От чтения этого текста у меня сохранилось ощущение, насколько я могу вспомнить, что в нем было много воображения, мало искусства и связи в композиции, но приятные мысли, немного пышная филантропия и мечтательная чувствительность, выраженная с восторженностью и чистосердечием юности. Красочное определение чувства и меланхолии, энтузиазм в отношении музыки „Деревенского колдуна” [оперы Руссо — Н. Р.], автору которого Наполеон хотел бы, чтобы возвели статую за одно это сочинение... — таковы пассажи, больше всего меня поразившие».
Повзрослев, Наполеон перестает писать, но читает не менее увлеченно. В свои военные походы он неизменно берет с собой огромную библиотеку. При этом его уже не интересуют абстрактные принципы — а значит, и почти вся философия. Он на все старается смотреть с позиции прагматика. И как это не похоже на то, чего можно было бы ожидать от поклонника Руссо!
«При обсуждении вопроса относительно рабства в колониях на заседании государственного совета... Наполеон дал понять собравшимся, что для него важен не теоретический принцип, а практические последствия той политики, которую изберет Франция. Как он пояснил, дело не в том, правильно ли вообще уничтожение рабства, а в том, чего следует ожидать, если восстановить его на свободной части Сан-Доминго. Первый консул выразил уверенность, что колония оказалась бы во власти англичан, если бы ее чернокожие жители не были привязаны к Франции интересами своей свободы. Экономическую перспективу он призвал соединять с военными соображениями. „Быть может, они произведут меньше сахара, чем будучи рабами; но они его произведут для нас, и при необходимости они нам послужат солдатами”».
Трудам вольнодумцев и защитников идеи народного суверенитета Наполеон теперь предпочитает великие трагедии, а также исторические и религиозные сочинения. Был ли император религиозен — вопрос до сих пор дискуссионный, и ему в книге посвящен отдельный параграф. Но понимание религиозной картины мира было ему необходимо как для устройства церковной жизни на родине, так и для того, чтобы лучше узнать своих глубоко религиозных противников — арабов, испанцев, русских. А вот восприятие трагедий точно было для него глубоко личным опытом, ведь в героических персонажах французского театра XVII века он видел свой идеал.
«Наполеону импонировали возвышенные сентенции о долге, чести, добродетели. Готовность погибнуть ради славы, бесстрашие героя — разве могли подобные мотивы оставить его равнодушным? Очевидно, высказанная в трагедии [Вольтера „Эдип” — Н. Р.] мысль о том, что великие „воины вроде вас равны монархам”, отвечала его внутренним убеждениям, служила одной из главных пружин многих его поступков».
Кроме того, театральные представления выполняли и политическую функцию. Вот что произошло, например, во время Эрфуртского конгресса.
«Александр I, желая польстить французскому императору, использовал для этого именно вольтеровскую трагедию: в театре он встал в присутствии всего Эрфурта и взял руку Наполеона в момент, когда произносились стихи из „Эдипа”: „Дружба великого человека является даром богов”. Жан Тюлар, комментируя упомянутый эпизод, замечает, что в этот момент театр оказывается перенесен со сцены в зал».
Хотя отвлеченные сочинения на тему морали и общественного устройства все меньше интересовали Наполеона, в книге Кротова детально описывается философский контекст революционной эпохи, а затем времен Директории, консульства и империи, причем бо́льшей части разбираемых текстов нет на русском языке. Речь пойдет о Мирабо и Бабёфе, Сен-Симоне и Фурье, Бональде и де Местре. О возвышении и падении школы «идеологов», о религиозных мыслителях и спиритуалистах, объяснявших Французскую революцию в терминах Провидения, о социалистах и романтиках. О тех, кто поклонялся гению Наполеона, и тех, кто в своих сочинениях бросал ему проклятия. И всюду, где только источники позволяют это сделать, Кротов показывает, как Наполеон отзывался о том или ином мыслителе, как оценивал его вклад в становление Франции, какой ее желал видеть император.
«Наполеон и философия», наконец, ясно показывает, что «обыкновенная история», о которой писал Гончаров, не минует даже самых великих из нас. Прекраснодушный руссоист, мечтавший о народном счастье и справедливо устроенном государстве, под влиянием опыта прожитых лет и непомерного веса всеевропейской власти стал деспотом и мелочным честолюбцем. Тем более закономерным выглядело его поражение — и оно не удостоилось того, чтобы стать сюжетом трагедии или послужить поводом для рождения новой философской теории.