Истинные мотивы миледи Винтер
Три новинки французской литературы, которые могут вас заинтересовать
Семейная сага как генеалогия памяти, повествование о неотчуждаемой агентности женщин и переосмысление ключевых событий романа «Три мушкетера» с точки зрения его главной героини — об этих новинках французской литературы читайте в обзоре Виталия Нуриева, написанном специально для «Горького».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Laurent Mauvignier. La Maison vide. Minuit, 2025
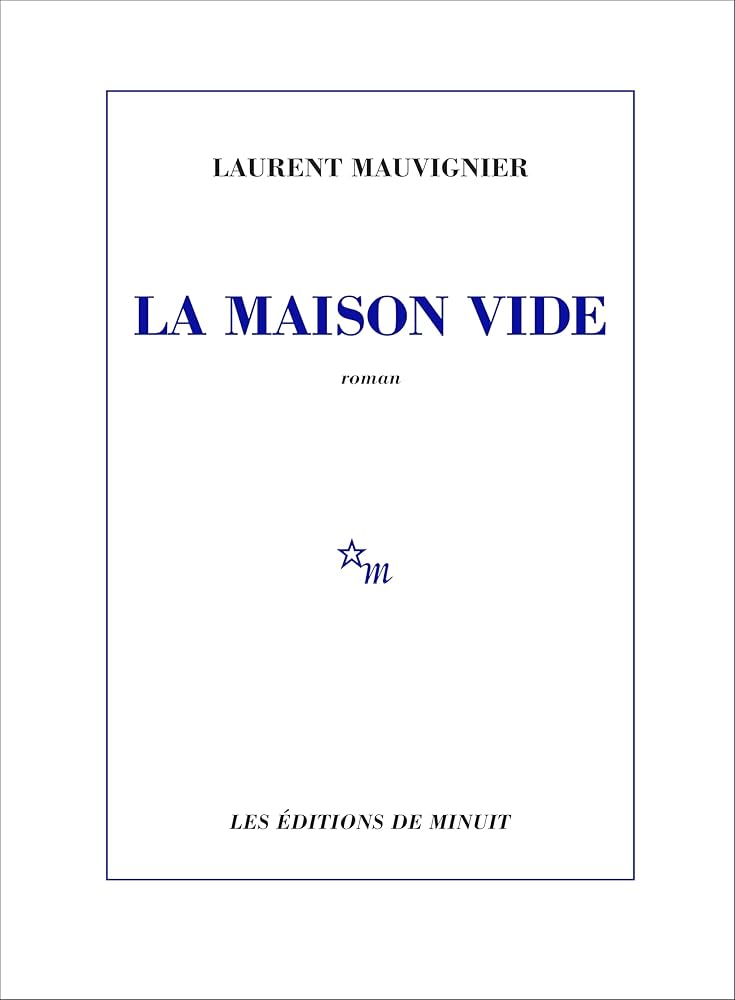
Бывают книги, которые нужно проживать медленно: поселиться в них на пару недель, ходить по коридорам, слушать скрип половиц. Роман Лорана Мовинье «Пустой дом» (недавний лауреат Гонкуровской премии) — книга такого рода. Словно большой ремонт в жилище, куда давно не ступала нога человека. Заходишь внутрь, а там пыль, потрескавшаяся штукатурка, обрывки обоев и… тишина. Тишина, которую Мовинье взялся разобрать по кирпичику, чтобы понять, почему она здесь воцарилась.
Безлюдный, тихий, заброшенный дом находится в вымышленном городке Ла‑Басс. Разгребая спрятанные тут воспоминания, Мовинье пишет семейную сагу о трех поколениях женщин: Жанн‑Мари (1860–1933), Мари‑Эрнестин (1885–1949) и Маргерит (1913–1954), чье лицо старательно вымарано с фотографий в семейном альбоме. Это «редактирование» памяти — главный движитель истории. Оно помогает отомкнуть прошлое: по крупицам восстановить опыт семейного горя на фоне двух мировых войн, показать, как индивидуальная травма складывается в коллективную, оставляя после себя шрамы, которые передаются дальше по наследству и мешают жить.
Автор препарирует механизм трагедии, распутывая генеалогию молчания. Его рассказчик стремится выяснить причины отцовского самоубийства, которое произошло в 1976 году, когда самому рассказчику было 16 лет. Слово здесь — инструмент раскопок. В семейных архивах, в письмах прячется правда. Восстановить ее невозможно без вымысла, потому что документы молчат, врут или вовсе отсутствуют.
Невысказанность, вычеркивание, умолчание вторгаются в текст романа — в его длинные, разветвленные фразы, вдруг обрывая их… На отдельной строке остаются одно-два слова, как ядро, извлеченное из скорлупы. Так выводится особенный ритм: в нем каждый излом — внезапное озарение, потревоженная рана. Автор не стоит над персонажами — он дышит с ними в такт, ловит их боль, надрыв, немоту. Синтаксис для него служит не столько надежным стержнем, на который нанизаны слова, сколько способом причудливой визуализации, то замедляющей сюжетное развитие, то, наоборот, ускоряющей его.
В этом смысле Мовинье наследует Прусту. Однако сравнивать его хочется с Золя. Он тоже пишет большой семейный роман, одновременно пытаясь понять, каким должен быть этот жанр в XXI веке, изменился ли он за последнее столетие или же окончательно затвердел, закостенел, застыл? В отличие от Золя, Мовинье мифологизирует семейную хронику, вылепливая свой оригинальный параллельный мир из архивной пыли. Натурализм уступает место многослойному умолчанию. В нем, как в неразобранной кладовке, скрывается обезмолвленное прошлое, литературная фиксация коллективной амнезии. Не чужой, а наш собственный опыт забвения. Следы его видны в фотоальбомах, нерассказанных историях, в нашей национальной памяти, в фантомных воспоминаниях о войне — воспоминаниях личных, семейных, заученных на уроке в школе.
Yanick Lahens. Passagères de nuit. Sabine Wespieser éditeur, 2025
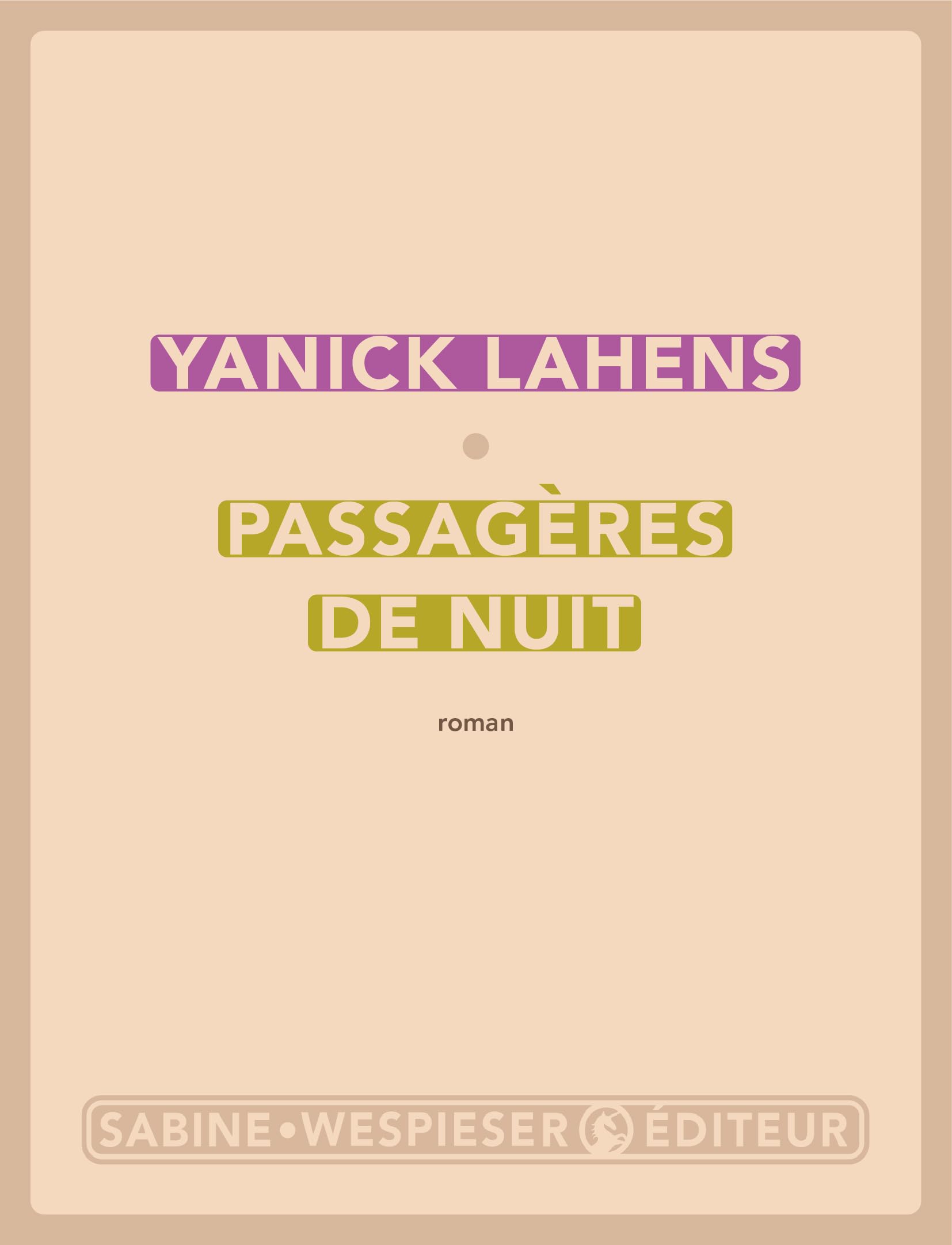
В романе «Ночные попутчицы» гаитянская писательница Яник Лаенс обращается к истории колониального мира, создавая полифонический мартиролог женской памяти. Произведение сложено из двух параллельных историй: первую рассказывает Элизабет, уроженка Нового Орлеана, вторую — Режина, нищая девочка из Гаити. Обе — родственницы Лаенс: бабушка и прабабушка. Про обеих потомкам почти ничего не известно. Автор восстанавливает, додумывая, семейное прошлое в попытке масштабировать события отдельных судеб, чтобы вписать их в поступательную логику исторического процесса. Иными словами, с позиции писателя-антрополога, как Тони Моррисон, она изучает коллективную травму, где личное политично, а тело женщины — поле битвы за историческую субъектность.
Нелинейность повествования затягивает нас в поток сознания, где обыденная действительность неотделима от шаманических опытов. В романе смешиваются языковые и культурные коды: французский текст прорастает креольскими идиомами и словами из лексикона вуду, помогая сконструировать уникальный художественный универсум. Чтение производит гипнотическое воздействие, сила которого увеличивается за счет особого заклинательного ритма, проникшего сюда из креольских танцев.
Автор, однако, не стремится к экзотизации. Знакомство с плотью и духом гаитянской реальности — ее апокалиптическим виденьем мира, политическими мятежами и тихой героикой повседневности — происходит через чувственные детали: запах жасмина и жареного арахиса, тяжесть влажного воздуха, цветовые всполохи тканей на рынке. Обостренность сенсорного восприятия превращается в форму познания мира, альтернативную рациональному колониальному взгляду.
Сквозной метафорой, вынесенной в заглавие, становится ночное путешествие — через океан в судовых трюмах работорговцев, сквозь мрак исторического беспамятства. Элизабет и Режина — «ночные попутчицы» в многовековом шествии женщин, чьи голоса заглушаются официальной историей. Их сопротивление не сводится к открытому бунту, гораздо важнее — упорное, неуклонное движение вперед. Эта философия выживания, укорененная в синкретическом мистицизме, противопоставлена колониальной логике обладания и насилия. Память здесь не является бременем, она оружие, переходящее, как эстафетная палочка, от прабабушки к внучке через семейные предания и ритуалы.
В своем понимании памяти роман вступает в диалог с прозой о травме — будь то «Кысь» Татьяны Толстой или «Памяти памяти» Марии Степановой. Здесь принципиально важен мотив работы с наследственной болью как источником силы. Лаенс исследует, как память отдельного человека становится актом гражданского сопротивления в условиях, когда официальная история лжет или умалчивает. Ее героини не ждут справедливости от системы, они творят ее сами, отвоевывая право на собственную судьбу.
Глубину повествованию придает отказ от одномерного образа угнетения: белые рабовладельцы не только насильники, они слабы и зависимы, они пленники собственной системы. Сложность человеческих связей в условиях тотального неравенства не упрощается до схемы. Механизмы власти калечат всех, но именно женщины, хоть и «побежденные», оказываются носителями подлинной, неотчуждаемой субъектности.
В этом году «Ночные попутчицы» удостоились Гран-при Французской академии как литературное высказывание о природе свободы, ее цене и универсальных законах памяти. Яник Лаенс совершает магический акт: оживляет тени прошлого, чтобы они осветили путь в будущее. Она показывает, как пишется история снизу, отстаивая идею о том, что несокрушимая человеческая стойкость в любую эпоху остается главным двигателем жизни.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Je voulais vivre. Grasset, 2025
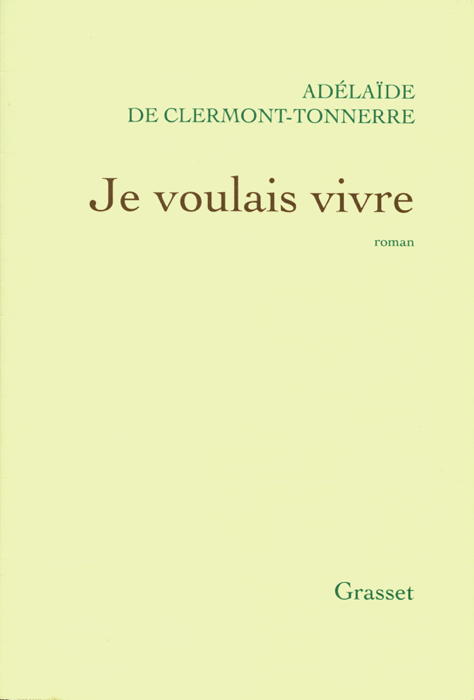
Французские литературные премии 2025 года высвечивают назревшую в обществе потребность вернуться к прошлому для его повторного пристального изучения. Гонкуровский лауреат Лоран Мовинье исследует молчание поколений; Яник Лаенс, получившая Гран-при Французской академии, изучает историческую субъектность на фоне коллективной травмы; Наташа Аппана, удостоенная премии «Фемина», в романе «Ночь в сердце» безжалостно документирует домашнее насилие. В этом контексте присуждение премии Ренодо роману Аделаиды де Клермон-Тоннерр «Я хотела жить» выглядит закономерным признанием смелой и методичной работы. В этом произведении проводится сложная операция — психологическая аутопсия одного из самых клишированных образов в литературе: миледи де Винтер из «Трех мушкетеров».
Клермон-Тоннерр подходит к материалу не как трепетный поклонник и не как идеолог с плакатом. Она действует как следователь, взявший с полки запылившуюся папку с делом, где, казалось бы, все точки над i уже давно расставлены. И мы видим известные события с принципиально другого ракурса. Их картина меняется за счет важных ревизионистских дополнений. В роман введена детально выписанная предыстория, объясняющая, как шестилетняя Анна де Брёйль превратилась в миледи. Суд над ней представлен с точки зрения обвиняемой. И что важнее всего, нам дана ретроспективная рефлексия стареющего д’Артаньяна. Он не лихой герой, а уставший ветеран, который мучается сомнениями в правомерности содеянного. Его полная неуверенности исповедь развенчивает миф об однозначной справедливости мушкетеров, превращая их коллективный акт возмездия в расправу, основанную на безоглядной вере в свою правоту.
Автор не пытается имитировать стиль Дюма. Ее проза — современная, точная, чуждая сантиментов. Она не делает из миледи святую, но и не позволяет ее демонизировать. Вместо этого методично показывается, как система — патриархальная, жестокая, лицемерная — поступательно ломает человека, а затем наказывает его за то, что он, чтобы выжить, образцово усвоил правила жизни. Убийство Констанции Бонасье, центральный нравственный узел, лишается налета мелодраматической интриги. Оно предстает не актом ревности или мести, а жестом экзистенциального отчаяния — уничтожением живого символа той любви, путь к которой для миледи навсегда отрезан несправедливой судьбой.
Роман вписывается в заметную тенденцию переосмысления классики с позиции маргинализированных персонажей. Часто такие литературные опыты легковесны: исправление чужого текста не прибавляет основательности своему. Однако Клермон-Тоннерр не стремится переписать Дюма или заполнить оставленные пробелы. Она создает свое монументальное произведение, не реабилитируя миледи в судебном смысле, а объясняя ее мотивацию, и в этом объяснении есть ужасающая логика. Ее миледи убедительна не потому, что более симпатична, а потому, что более последовательна в своих действиях.
В итоге «Я хотела жить» нельзя назвать просто увлекательным историческим романом, оправдательным приговором или манифестом. Это рассуждение о природе суда, памяти и границе между палачом и жертвой в мире, где история пишется победителями. В финале автор позволяет себе прямой, почти дерзкий диалог с Дюма, предлагая ему закончить начатый им же разговор — чтобы наконец понять, ибо прошлое не нуждается в оправдании, оно требует понимания. И понимание это, как показывает Клермон-Тоннерр, редко бывает утешительным.