Логика и технология письма
Рецензия на книгу Александра Скидана «Сыр букв мел»
Александр Скидан. Сыр букв мел. СПб.: Jaromír Hladík press, 2019
Так бывает, что читая сборник давно известных текстов, вышедших под одной обложкой, опознаешь, насколько сильно определяют тебя тексты, кажущиеся хорошо знакомыми, прочитанными, пройденными. И, возможно, именно поэтому начинаешь делать пометки, спорить, возмущаться. Так произошло у меня со сборником эссе Александра Скидана «Сыр букв мел», писавшихся на протяжении более, чем 20 лет, и посвященных Аркадию Драгомощенко.
Скидан стремится прочертить для Драгомощенко пространство вне сложившихся культурных иерархий и даже самой логики их построения. «Есть замечательные поэты, их все знают, они прекрасны, но малоинтересны... они остаются в плоскости эстетического высказывания „о жизни“... И есть поэты, которые меняют сознание, сам способ мыслить». Драгомощенко, разумеется, относится к таким — «поэтам-законодателям, поэтам-ученым, он учредил совершенно иную традицию в русском языке, иную логику письма». Характерно, что поэт-ученый основывает традицию не в поэзии как таковой (эту традицию или даже индустрию будут обустраивать те, кто придут позже и поднимет его имя на знамя), а в русском языке. Скидан делает Драгомощенко наследником Введенского, но есть и более ранние предки. Последними поэтами, кого включали в историю языка, а не литературы, были футуристы: первый доклад Шкловского, который впоследствии стал первым манифестом формализма, назывался «Место футуризма в истории языка».
Первое же эссе начинается с похода автора на интеллектуально-популярную литературу, недостаточно «одержимую собственным исчезновением»: автор враждебен к комбинаторике устоявшихся культурных смыслов, присягает скорее Ницше и всему, что есть от него в русском авангарде — «тончайшей эрозии мысли, разъедающей синтаксис». Впрочем, оставаясь верным Ницше, стоило бы спросить и о том, каковы медицинские корреляции и причины «разъедания синтаксиса», «отступления к истокам высказывания», бормотания и прочего «неартикулируемого остатка». Якобсон в свое время описал центральные поэтические тропы — метафору и метонимию — в терминах афатических нарушений, и это кажется удачной пропорцией искусства поэзии и такой позитивной науки, как (психо)лингвистика.
Наряду с новой логикой письма и способом мыслить (ключевой вопрос в отношении этих почетных нововведений — что из этого первично), Драгомощенко учреждает еще и новые правила чтения. «Ввести новые правила чтения — это совсем не то же самое, что написать хороший или плохой роман». Скидан сдвигает акцент с культурного «качества» на изобретение нового способа мыслить, но, возможно, стоит и его заземлить на определенную логику письма, а ее в свою очередь понимать как воплощенную моторную процедуру, как логику не только смысла, но и ощущения. В пределе и эта механика производства текстов будет определяться механикой их потребления и всей опосредующей эти отношения материальностью.
Чуть далее Скидан уточняет, что за разрывом с полем общего смысла (для которого и требуется это нововведение) стоит некий телесный опыт. О таком опыте сегодня много говорится в связи с молодой поэзией, но он редко понимается буквально. Чаще всего оставаясь некой жеманной фигурой умолчания, «телесный опыт» призван как-то фундировать письменные отправления и одновременно оставаться несказуемым сам.
Однако не идет ли в данном случае речь о таком телесно-моторном опыте, как пользование компьютером? Драгомощенко до последнего подрабатывал версткой и никогда не стыдился этого «непоэтического занятия». Он принадлежал к той эпохе и когорте людей, что делала из своих производственных условий предмет рефлексии или во всяком случае стилизации (к ней же можно отнести и Вячеслава Курицына, чей легендарный сайт «Курицын-weekly» был стилизован под рабочее пространство графического редактора). Сегодня же, когда только ленивый рискнет не тематизировать «медиальные условия поэтического высказывания», редко делаются эстетические и организационные выводы из новой медиасреды коммуникации. Позволю себе (авто)биографическое отступление.
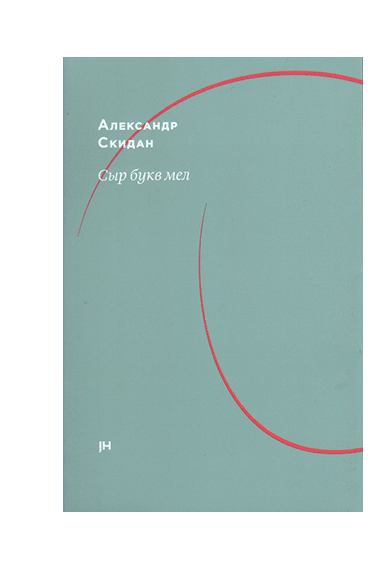
Осенью 2012 года, когда еще длилась социальная мобилизация и внимание многих интернет-пользователей было приковано в основном к ней, умирал Аркадий Драгомощенко. Я помню, как в какой-то момент в сети появились первые упоминания о его смерти и, соответственно, соболезнования. Особенно вторые, разумеется, не удосуживались никаким фактчекингом, а просто присоединялись к общему хору. Однако вскоре кому-то из родных или близких пришлось уточнить, что вообще-то Аркадий еще жив, и серия соответствующих постов прекратилась.
Семь лет спустя примерно в тех же сентябрьских числах я ехал в пустом вагоне поезда Новый Уренгой — Екатеринбург и читал подаренный накануне автором сборник эссе, название которого навсегда библиографически породняет старшего поэта и автора эссе о нем — «Сыр букв мел» теперь и строка из стихотворения Драгомощенко, и название (сборника) эссе Скидана. Прибыв на следующее утро снова в интернетофицированное пространство, я обнаружил, что социальная сеть напоминает мне о том, возможно, последнем всплеске неофициальной ленинградской культуры, который был вызван смертью Аркадия в 2012 году. На видео Скидан в темных от скорби очках читает стихотворение Драгомощенко во дворах «Борея», а камера (Дмитрия Пиликина) блуждает по лицам присутствующих, по верхним этажам двора-колодца и удивительно ясному для питерской осени небу. Все это кажется стихийно разворачивающейся экранизацией самого звучащего стихотворения:
Колодцы, в полдень откуда звезды остры,
но книгой к чужому ветвясь.
И всегда остается возможность,
песок
и стоять.
Два этих случая намертво связывают для меня фигуру Драгомощенко с компьютерными алгоритмами, заставляют все время держать в уме их некое конфликтное взаимное притяжение: речевой жанр соболезнования, автоматизированный социальными сетями и опережающий реальное положение дел, а также воспоминание, провоцируемое социальной сетью, хотя и совпадающее с реальным опытом чтения накануне. Скандал — расхождения или совпадения — тем более кричащий, что в действительности неофициальную культуру, эмблемой которой и был Драгомощенко, сегодня продолжают представлять те, кто компьютерной техникой пользуется весьма неохотно и неумело.
Можно назвать это «синдромом Останина» и сказать, что это легендарные люди, которые до сих пор предпочитают звонить для приглашения на поэтические мероприятия, в крайнем случае делать рассылку (еще одна внезапно устаревшая коммуникативная практика), но продолжают пребывать в неведении относительно расшифровки аббревиатуры SMM. Это те, кто полагается скорее на личные связи, чем на синхронную мобилизацию соцсетей, скорее на легенду, чем на кликбейт. Это и делает подобную натуру уходящей, но пробовать ее превратить в эффективно работающий культурный хаб было бы еще более прискорбно.
В конечном счете из этой же медиаэпохи происходит и техника close reading, или пристального чтения (чьи культурные истоки мы оставляем в этих скобках). Только во времена, когда мы не еще были интернет-обязанными, пространным поэтическим текстам и фрагментарной орнаментальной прозе могло уделяться столько внимания — не в последнюю очередь и профессионально-критического. Нынешняя медиаэпоха поднимает на знамена скорее «дальнее чтение», или distant reading, как называется книга стэнфордского литературоведа Франко Моретти. Впечатлительная близорукость «людей интенсивной детали», способных даже знакомые тексты читать каждый раз по-новому (а свои — бесконечно переписывать), сменяется усталым прищуром дальнозорких читателей или даже соглядатаев текстов, которые «уже все это видели».
О связи стихов Драгомощенко с техникой написано не так много. Речь обычно идет об их лингвистических особенностях — «своеобразном синтаксисе, по которому сразу можно узнать руку А. Д.» и который поэтому, к сожалению, поддается имитации, но сама генеалогия такого синтаксиса остается не прояснена — в том числе для многочисленных последователей. Идет речь о «лирическом отступлении к истокам высказывания» и других поэтологических маневрах, описанных лингвистически вполне объемно, но все равно остающихся слишком абстрактными. Наконец, постоянно идет речь о «письме» — это понятие, мелькающее как у Барта, так и у Деррида, появляется у Драгомощенко неслучайно и мотивированно. Но то, в сколь жесткую ротацию оно попадает сегодня, говорит о сокрушительной победе постструктурализма. Существует семинар «Ф(еминистское) письмо», в среде поэтической премии им. Драгомощенко часто идет речь о «молодом письме», что в свою очередь требует возобновления работы бартовского сарказма. Институциональную речь о «молодом письме» сложно отличить от разговора о сорте вина («молодое божоле»), посевах или надоях, поскольку институт вынужден постоянно регистрировать, а порой и фабриковать, дистиллировать эту мистическую субстанцию, каждый сезон призванную давать новый урожай.
 Аркадий Драгомощенко на чтениях в Нью Лэнгтон «Артс-центр». Сан-Франциско, 1988
Аркадий Драгомощенко на чтениях в Нью Лэнгтон «Артс-центр». Сан-Франциско, 1988
Однако, возможно, для Драгомощенко «письмо» означало не стиль, не поэтику, не способ высказывания, но просто-напросто моторную практику, из которой следуют и определенная логика размещения текста на странице, и, как следствие, некоторая поэтология, но прежде всего это подразумевает жестикуляторный репертуар пишущего. Попробуем прочитать в таком духе первый абзац эссе «Отступление к истокам высказывания»:
«Письмо Аркадия Драгомощенко отличается тем, что принципиально отвергает традиционное разделение на прозу и поэзию, сохраняя, да и то не всегда, лишь визуальную, графическую разницу между ними — способ записи».
«Способ записи» — это очень материальный, почти моторный параметр литературы, определяющий предшествующее ему письмо как мануальную практику. Один из наиболее знаменитых случаев, когда из определенной моторики и материальной повседневности пишущего следовал новый способ «письма», связан с именем Роберта Вальзера. Как отмечает А. Глазова в предисловии к книге переводов, «характерность Вальзера, его особое место в истории литературы не в том, что он изобрел новый авторский стиль или даже орфографию (как это сделали, например, члены кружка Стефана Георге), а в расширении самого понятия о том, как можно писать».
На наш взгляд, это изобретение способа писать стоит понимать буквально. Как известно, Вальзер писал карандашом на полях газет, на обратных сторонах уже исписанных страниц, что предположительно и порождало стилистическое и все прочее своеобразие его «писанины» (как он сам это называл, возможно, опять же намекая на моторный характер). Наряду с экологией носителя «карандашная система» Вальзера подразумевала и особый темп письма, то есть скоропись, в результате которой и появлялись микрограммы.
«Палимпсест в случае Драгомощенко не сводится к интертекстуальности — во-первых, он писал не только на полях, поверх чужих текстов, но и постоянно переписывал, видоизменял собственные. Безостановочный процесс, work in progress, в котором угадывается одержимость темпоральностью акта письма, трансформирующего пишущего».
Представим, что если Драгомощенко пользовался не «карандашной», а файловой системой, но это еще не делало его письмо абсолютно дематериализованной практикой, а только иначе организовывало ее моторно (учитывая такие навыки, как «слепая печать», верстка или зрительные рефлексы, вырабатываемые корректорами). Письмо «поверх» и «на полях», «одержимость темпоральностью акта письма» стоит понимать как прямые указания на конкретные физические характеристики скриптуральной процедуры, а не только категории интерстекстуальной и постструктуралистской поэтики.
Наконец находим у Скидана: «Эти строки легко представить записанными в столбик или лесенкой. И наоборот, начиная с поэмы „Ужин с приветливыми богами“ [...] Драгомощенко вводит в стихотворную ткань обширные прозаические куски», а впоследствии с той же легкостью в той же поэме «опущены фрагменты с важными автобиографическими реминисценциями, а также письмо Бориса Останина из шестой части, образующее концептуальную рифму к письмам Лин Хеджинян».  Александр Скидан
Александр Скидан
О чем говорит такая легкость вставки и вырезания целых фрагментов, а также постоянно упоминаемая Скиданом страсть Драгомощенко к бесконечному редактированию своих текстов? Если оставить на время разговор о степени радикализма мышления, интенсивность всех этих операций указывает на наличие инструмента, делающего их возможными и чрезвычайно простыми: текстового редактора.
Есть и другие характерные пересечения. Забывчивый и не слишком последовательный рассказчик Вальзера неизбежно заражает забывчивостью и читателя, который просто не в состоянии удерживать в уме все высказанные, но так и не выполненные (а также перемежаемые многочисленными отступлениями) повествовательные обещания: материальность разрозненных листков определяет свойство повествования.
Возможно, и из того факта, что «предложения у Драгомощенко, и в прозе, и в поэзии, строятся таким образом, что их почти невозможно запомнить» можно вывести не только подрыв прустианско-набоковской концепции «литературы как спасения через память», но и некоторые материально-моторные обстоятельства современного пользователя техническими устройствами. Сначала — технологический субстрат, потом — «мораль формы» (как Барт определял «письмо») и прочие культурные эффекты и диалоги. В своем исследовании о мнемоническом бытовании стиха Михаил Гронас показал, что именно материально-технические обстоятельства литературного быта — закрытость архивов, дефицит носителей, в конце концов политические преследования — сделали русский стих надолго привязанным к рифме. Если Драгомощенко отказывается от линейной логики, обращается к паратаксису и «вводит в стихотворную ткань обширные прозаические куски», не указывает ли это не только на его формальный радикализм, но еще и прежде всего на тот факт, что он был одним из первых неофициальных поэтов, быстро и с интересом освоивших компьютер?
Это подсказывают и некоторые аналогии и «синтаксические интуиции» автора сборника эссе. В «Слепке циклона» Скидан говорит о том, что «тяжба о (само)референциальности (поэтического) языка, пронизывающая все поздние тексты Аркадия», работает «на манер запускающей вирус компьютерной программы», а описание экспериментального характера прозы («нарративные элементы сведены к минимуму, персонажи отсутствуют [...], грань между fiction и non-fiction демонстративно размыта, предмет повествования [...] едва уловим, жанровые границы неустойчивы и размыты») хочется продолжить таким же техничным замечанием «пульс — блуждающий».
Зерна эмпирической и медиологической чувствительности можно встретить и у Скидана, приводящего скороговоркой, в скобках цитату из Валери, что возможно лучше другого указывает на истоки логики письма Драгомощенко:
«Вполне возможно, что тончайший анализ ощущений, к какому приводят, по-видимому, определенные методы наблюдения и регистрации (например, катодный осциллограф), побудят измыслить такие методы воздействия на чувства, рядом с которыми и сама музыка, даже музыка «волн», покажется чрезмерно сложной в своей механике и допотопной в своих притязаниях. Между «фотоном» и «нервной клеткой» могут установиться совершенно невероятные связи».
Кажется наконец, что и само фразеологическое бессознательное Драгомощенко, как показывает Скидан, тяготеет к позитивистской лексике: «Элементы зрения», «Естественные науки», «Опыт», «Воздух», «Наблюдение падающего листа, взятое в качестве последнего обоснования пейзажа», «Настурция как реальность».
 Аркадий Драгомощенко
Аркадий Драгомощенко
«Это натурфилософская, можно сказать, аналитическая поэзия (по аналогии с аналитической философией), но аналитизм ее особого рода. Концептуальный каркас сплетается из сенсомоторных корпускул восприятия...»
Подчеркнем еще раз, что все эти замечания (как и эссе Скидана, прочитанные залпом) позволяют прочитать Драгомощенко как наследника британского эмпиризма и аналитической философии (а также всего произошедшего с ними в XX веке и на французском языке), что делает несколько понятнее, к какой традиции тяготеет этот «поэт-ученый», своеобразие которого в 90-е и тем более ранее было принято связывать с «даосскими, буддийскими практиками».
Собственно, само название сборника допускает такую же двойственность: можно видеть в последовательности слов «Сыр букв мел» исключительно паратаксис (если вообще не считать это набором звуков, отдающих дань заумной традиции и непосредственно рифмующейся с ее наиболее знаменитым образцом «Дыр бул щыл»), а можно — слепок действительной моторной практики, не позволяющей в силу материальных характеристик носителя знаков (сырость) и инструмента письма (мел) вывести нечто длиннее односложных слов — слепок, одновременно диагностирующей свое собственное положение. В конце концов, речь идет о надписи в подъезде напротив кинотеатра «Спартак», в котором в перестройку располагалась мастерская сына поэта:
В подъезде сочится надпись: «Убит Вольтер, позвони срочно мне».
Сыр букв мел.
Другими словами, книга эссе Скидана допускает две возможности — как продолжать видеть в поэзии Драгомощенко исключительно мощный интертекстуальный ансамбль, уточнять, что роман «Китайское солнце» обязан своим заголовком строке стихотворения Вагинова, так и взглянуть на практику или даже лучше моторику письма и другие медиологические эффекты корпуса Драгомощенко, и увидеть, что эффект снимка на обложке этого романа обязан «техническому трюку или браку». Характерно, что они почти не различаются.
 Сыр
Сыр ru
ru Сыр
Сыр