Идем кого-то низвергать
Три поэтические книги апреля
Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались». Том II. Часть 1 / Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семенова. М.: ЛитГОСТ, 2019
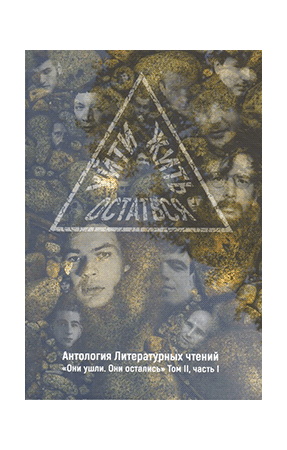 На проект «Они ушли. Они остались» и сопутствующую ему серию антологий «Уйти. Остаться. Жить» свалилось немало шишек: обвинения в желании сделать себе имя на покойниках, в излишнем пафосе, чуть ли не в литературной некрофилии. Поэт Евгений Никитин написал развернутую эпиграмму, в которой один из организаторов обзванивает стареющих поэтов, желая узнать, не умер ли кто, чтобы дать материал для новой серии чтений. Все это означает по меньшей мере, что проект заметен.
На проект «Они ушли. Они остались» и сопутствующую ему серию антологий «Уйти. Остаться. Жить» свалилось немало шишек: обвинения в желании сделать себе имя на покойниках, в излишнем пафосе, чуть ли не в литературной некрофилии. Поэт Евгений Никитин написал развернутую эпиграмму, в которой один из организаторов обзванивает стареющих поэтов, желая узнать, не умер ли кто, чтобы дать материал для новой серии чтений. Все это означает по меньшей мере, что проект заметен.
Собственно, «Они ушли. Они остались» — цикл чтений, посвященных памяти рано умерших поэтов; у истоков замысла стояли Борис Кутенков и Ирина Медведева, мать погибшего в 1999 году молодого поэта Ильи Тюрина. Если в первой антологии (которую мы коротко упоминали на «Горьком» в конце 2016-го) представлены авторы, умершие в 1990, 2000 и 2010-е, то в новом томе представлены те, кто ушел в 1970-е (вторая часть тома, готовящаяся к выходу, соответственно, о тех, чья жизнь оборвалась в 1980-е). В целом антология повторяет структуру чтений: за стихами почти в каждом случае следует эссе об их авторе — иногда оригинальное, иногда перепечатанное из других источников (так что мы имеем редкую книгу, в которой могут встретиться Илья Кукулин, Станислав Куняев и Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом.).
Разумеется, получившаяся антология, как и первая, неровная. В семидесятые годы писали самые разные люди, трагической ранней смертью умирали и обласканные официальной печатью поэты, и глубоко законспирированные авангардисты. В результате контекст эпохи и алфавитный порядок выкидывают иногда причудливые кунштюки — например, после Николая Рубцова с хрестоматийным почвенническим «Россия, Русь! Храни себя, храни!» следует Михаил Соковнин со стихотворением «Жаба»: «Жила-была / Же-А-Бэ-А» (которое, честно сказать, мне нравится гораздо больше Рубцова). Очевидный провал антологии, в котором составители не виноваты, — отсутствие в ней стихов Леонида Аронзона: их не удалось напечатать из-за разногласий с наследниками. Хотя здесь и перепечатаны две важные статьи об Аронзоне (Ильи Кукулина и Валерия Шубинского), открывать антологию отсутствующими стихами — вынужденный, но невыигрышный ход, тем более что судьба и миф Аронзона — в числе самых показательных и значимых для его поколения.
Но и в отсутствие Аронзона есть две вещи, из-за которых на эту антологию стоит обратить внимание. Во-первых, тут, конечно, много отличных стихотворений. От кратких верлибров Ефима Зубкова, где-то смыкающихся с настроениями позднего Сатуновского («Если встретишь / улыбающегося прохожего / ответь / возможно / это / хороший человек») до обреченных текстов Ильи Рубина:
Пока эпоха крепкие чаи
Гоняла в блюдцах до седьмого пота,
По лагерям разучивались плакать
Мои учителя, наставники мои.
И зашагала козырная рота
Ветра сибирские в колодки забивать.
А мне прикажете — тревожить Мандельштама
И Гумилеву руки целовать?
или до кристальной, совершенно антологической в античном смысле «Фотографии» Намжила Нимбуева — бурятского поэта, писавшего по-русски:
— Дети, — сказал фотограф, —
смотрите сюда, не мигая,
из этой дырочки круглой
вылетит птичка сейчас.
Дети старательно ждали,
но птичка не вылетала.
Годы прошли и войны,
фотограф-обманщик умер,
а дети глядят со стенки:
где же все-таки птичка?
Во-вторых, у этой книги есть некая обобщающая функция. Можно ли сделать какие-то выводы о литературных стратегиях этих поэтов — стратегиях не сознательных, но ставших ясными постфактум (постмортем)? Кажется, не предвиденная составителями суть антологии в том, что она показывает, насколько позднесоветская эпоха была равнодушно-безжалостна ко всем — выбирал ли человек тихое копирование «среднего советского стиля» или, вдохновляясь Маяковским как одним из немногих разрешенных авангардистов, стремился продолжать его линию, в том числе установку на громкость, гласность (в книге, например, есть два стихотворения автора «Человеческого манифеста» Юрия Галанскова: «Уйдем, / и надо полагать — / идем кого-то низвергать»). Впрочем, лучшим стихам этой книги свойственна нота горького скепсиса: пожалуй, чище всего в советской неподцензурной поэзии ее выразил поэт, миновавший условный сорокалетний рубеж, — Сергей Чудаков.
При некоторой тенденциозности составления (сложно, в самом деле, не поместить в подборку безвременно погибшего поэта стихи, как бы предсказывающие его смерть) эта антология уточняет представление о поэтических 1960-х и 1970-х. Благодаря эссе и филологическим работам Михаила Айзенберга, Владислава Кулакова, Олега Юрьева, Данилы Давыдова мы знаем: 1960-е были временем, когда распалось кажущееся единство русской поэзии, сохранявшееся с «серебряного века», а 1970-е — временем, когда в общественном вакууме выживали результаты этого распада, острова разных поэтик. Во вполне определенном, политическом смысле почти все стоящие поэты 1970-х оказались маргиналами. Но и в этой маргинальной области, как выясняется, была своя обочина, за которую относило совсем уж одиночек. Бывшие раньше строчками примечаний, эпизодами малоизвестных мемуаров, теперь они снова получают право голоса — и за это составителям антологий «Уйти. Остаться. Жить» можно сказать спасибо.
Ирина Котова. Анатомический театр. Харьков: kntxt, 2019
 Эта книга целиком о насилии. О его системности, о взаимосвязи его проявлений: от бытового кошмара (муж избивает жену, буквально снимает с нее скальп, но наутро жена забирает заявление из полиции) до военного — преступлений, понимаемых как героизм, патриотического милитаризма, подвалов, ставших клубами для садистов. В кратком предисловии Елена Фанайлова сравнивает письмо Ирины Котовой с текстами «„молодых разгневанных женщин” постсоветского феминизма» — по ее мнению, Котова отличается от них тем, что «не отделяет себя от самой материи событий, не выносит авторское в позицию „судейское”». Это, по-моему, не вполне верно: как у «молодых разгневанных женщин», так и у Котовой есть возможность говорить с разных дистанций. Врач по профессии, она переносит в поэзию медицинскую отстраненность, но сквозь нее то и дело прорывается гнев. «так впервые / мне захотелось / убить человека» — о насильнике, который признается героине стихотворения в любви, перед этим рассказав о совершенных им на войне зверствах; здесь тот случай, когда стихи способны вызвать подлинное сопереживание, заставить думать о возможном развитии событий.
Эта книга целиком о насилии. О его системности, о взаимосвязи его проявлений: от бытового кошмара (муж избивает жену, буквально снимает с нее скальп, но наутро жена забирает заявление из полиции) до военного — преступлений, понимаемых как героизм, патриотического милитаризма, подвалов, ставших клубами для садистов. В кратком предисловии Елена Фанайлова сравнивает письмо Ирины Котовой с текстами «„молодых разгневанных женщин” постсоветского феминизма» — по ее мнению, Котова отличается от них тем, что «не отделяет себя от самой материи событий, не выносит авторское в позицию „судейское”». Это, по-моему, не вполне верно: как у «молодых разгневанных женщин», так и у Котовой есть возможность говорить с разных дистанций. Врач по профессии, она переносит в поэзию медицинскую отстраненность, но сквозь нее то и дело прорывается гнев. «так впервые / мне захотелось / убить человека» — о насильнике, который признается героине стихотворения в любви, перед этим рассказав о совершенных им на войне зверствах; здесь тот случай, когда стихи способны вызвать подлинное сопереживание, заставить думать о возможном развитии событий.
anamnesis morbi:
всю жизнь делает патроны на заводе
замужем
муж алкоголик-параноик не работает
трезвый — человек хороший ласковый
результат семейной жизни —
перелом двух ребер
перелом нижней челюсти слева
<…>
— телесериалы смотрите? плачете?
— нет доктор
только от гордости за нашу родину плачу
когда по телевизору наши танки показывают
или бомбардировщики наши
или истребители…
тогда на меня как будто накатывает
<…>
медленно вывожу диагноз
страшный диагноз —
из ее патронов из ее кожи
из ее тонких ломаных ребрышек
насилие сделает памятник
гордости
Это очень прямолинейное стихотворение — но в его финале возникает некий пуант, построенный на неудобосочетаемости слов («маленький памятник гордости»), который и решает дело. Перед нами и впрямь не верлибрическая публицистика, а поэтическая диагностика. У Котовой такое часто: «маленькие женские арлекино», «обидная зеленка деменции». Признанный мастер этого приема, который может соблазнительно возвести к осмыслению «бешено спящих зеленых мыслей» Ноама Хомского, — Андрей Сен-Сеньков. Этот блестящий поэт в параллельной жизни тоже врач, и книга Котовой многим ему обязана. Но там, где Сен-Сеньков пригоняет друг к другу несочетаемые слова сугубо ради разительного эстетического эффекта, Котова делает политический жест, подчиняя свой инструментарий главной своей теме. Будь то стихотворение «противогазы мертвых слонов» (о школьной военной подготовке) или притча о погибших экзотических бабочках, которую поэтесса связывает с фейк-ньюс 2014 года про «самолеты / набитые мертвыми пассажирами». Как и Сен-Сеньков, Котова вскрывает дикость вещей, на автомате кажущихся обыденными, — например, связь войны с продолжением рода, которую обеспечивает сфера медицинских услуг:
входит в моду
перед отъездом в горячую точку
вместо оргии под гармонь
оставлять замороженную сперму
<…>
в этой пробирке спрятано твоё кладбище —
стадо белых барашков в облаках
замороженные сталактиты и сталагмиты генов памяти
вначале их разморозят
потом — поместят в тело чужой женщины
(такой запах пота тебе не нравился)
потом — у них отпадут хвосты
они пойдут в школу и секцию баскетбола
матери будут обнюхивать их пальцы —
ругать за курение
называть безотцовщиной
Самые жесткие тексты я здесь не цитирую, но можете поверить: чтобы написать такую книгу, нужна недюжинная решимость. Пусть ее почувствуют, а книгу прочитают.
Владимир Гандельсман. Видение: Избранное. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019
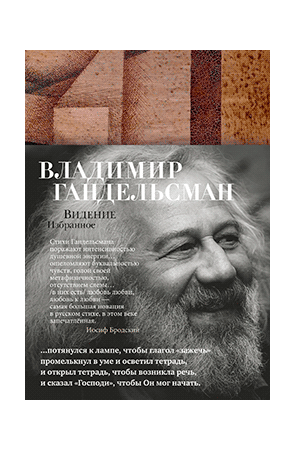 Эта книга — большое избранное; предыдущие выходили девять лет назад в «Русском Гулливере» и четыре года назад во «Времени». То, что Гандельсман — один из лучших современных русских поэтов, было ясно и тогда, но сборники, опубликованные за последние годы (а равно и новые стихи, впервые собранные уже в этой книге), счастливо подтверждают этот факт.
Эта книга — большое избранное; предыдущие выходили девять лет назад в «Русском Гулливере» и четыре года назад во «Времени». То, что Гандельсман — один из лучших современных русских поэтов, было ясно и тогда, но сборники, опубликованные за последние годы (а равно и новые стихи, впервые собранные уже в этой книге), счастливо подтверждают этот факт.
Первое, что поражает в его стихах, лежит на поверхности — это феерическая виртуозность поэтической техники. Гандельсман строит перед собой баррикады и превращает их в лестницы. Самолично выдуманные сложные формы он выдерживает с легкостью, которой не получается даже завидовать — можно только восхищаться; вот, например, стихотворение «Цапля»:
Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен
и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.
Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив — тяжело, определенно —
и с лап роняя капли,
над прудом
летит — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумленно.
О форме у Гандельсмана можно долго говорить, как и о его владении совершенно разной риторикой: он может быть высокопарен и выстраивать сложные синтаксические конструкции, как в «Цапле», а может ограничиваться кратчайшими предложениями-выстрелами: «Документальный фильм. Расстрел. / Вчера смотрел. // Толкают в яму, / допустим, Зяму. // Земля сыра. / В голове дыра. // Теперь стоит раскидистое дерево. / Посёлок Зверево». В любом случае его стихи вызывают сильные эмоции, и это важнее формы.
Часто цитируемый и украшающий в том числе нынешнее издание отзыв Иосифа Бродского говорит об «интенсивности душевной энергии» и «любви к любви — самой большой новации в русском стихе, в этом веке запечатленной». При этом Бродский отмечает у Гандельсмана «отсутствие слезы». Возможно, но стихи Гандельсмана воздействуют на читающего их самым непосредственным образом: сколько бы я ни перечитывал «Воскрешение матери» (где из типичных, узнаваемых всяким фраз — от «Надень пальто. Надень шарф» до «Ты / Остаешься один. Поливай цветы» — складывается образ даже не умершей матери, а сына, который, перечисляя эти фразы, пытается справиться со своей утратой и только растравляет ее) или «Блокадную балладу» — ком неизменно подступает к горлу. Девиз книги «Видения» — даже не «любовь к любви» (хотя Гандельсман — один из очень немногих поэтов, кто умеет без неуместного пафоса возвышать эротику; см. сборник «Школьный вальс» или «библейское» стихотворение «Амнон и Тамар»); скорее это любовь к жизни. Не претендуя на пушкинское знание «Весь я не умру» и зная, «что, сойдясь в едином слове, / смерть и жизнь звучат: смежи», Гандельсман отказывается смежить веки и поверить в смертность.
Так впиться в мир, чтоб он в тоске прицельной,
меня увидев с ясностью предельной,
как я — его, меня не отпустил, —
каков настил! —
дощатый, хвойный, ледяной, морской, небесный,
любой — ты без меня пустой и пресный!