«хотела порезать к обеду х»
Лев Оборин — о четырех поэтических новинках
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алла Гутникова. рыбка по имени ривка. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2023
 Аннотация к книге: родилась, училась, публиковалась... «Бывшая политзаключенная; провела год под домашним арестом по делу DOXA. Последнее слово в суде переведено на английский, немецкий, французский, иврит, итальянский, польский, румынский, чешский, армянский и другие языки. Объявлена в розыск». Дадим и мы ссылку на последнее слово Аллы Гутниковой в суде: разошедшееся по веб-страницам и языкам, оно построено на важных для поэтессы и активистки цитатах — и от этих цитат отстраивается этическая парадигма, сделавшая Гутникову той, кем она является. В поэзии работает этот же принцип: «рыбка по имени ривка» — игра цитат, часто явственных (например, детское стихотворение Ирины Токмаковой про рыбку процитировано целиком), часто едва уловимых, легким касанием очерчивающих круг чтения, мышления, проблематики — будь то Пушкин, Цветаева, Гронас или Дашевский.
Аннотация к книге: родилась, училась, публиковалась... «Бывшая политзаключенная; провела год под домашним арестом по делу DOXA. Последнее слово в суде переведено на английский, немецкий, французский, иврит, итальянский, польский, румынский, чешский, армянский и другие языки. Объявлена в розыск». Дадим и мы ссылку на последнее слово Аллы Гутниковой в суде: разошедшееся по веб-страницам и языкам, оно построено на важных для поэтессы и активистки цитатах — и от этих цитат отстраивается этическая парадигма, сделавшая Гутникову той, кем она является. В поэзии работает этот же принцип: «рыбка по имени ривка» — игра цитат, часто явственных (например, детское стихотворение Ирины Токмаковой про рыбку процитировано целиком), часто едва уловимых, легким касанием очерчивающих круг чтения, мышления, проблематики — будь то Пушкин, Цветаева, Гронас или Дашевский.
Главный прием книги Гутниковой — монтаж: мы читаем здесь неоформленные заметки, отрывки из переписки, дневников и конспектов. Такой монтаж рассчитан если не на узнавание, то на сочувствие — понимание, почему это могло быть выписано и поставлено в соседство с другими фрагментами. Говорение цитатами — форма нежности:
трудно разобраться в буквах давших мне тебя хотела порезать к обеду х но зарезала розенкранца заморозила воду льдинка на языке огонь моих чр моего чр спичка-свечка чрчрчрчр впечатление-запечатление от печали до предела как печать на сердце как на руку перстень.
«Нежность» — слово, многократно повторенное на обложке книги, вместе со словами «агрессия», «аффект», «немота», «катарсис»; нежность — основополагающая эмоция этой книги, но из чистого аффекта в литературу ее превращает именно навык контекстуализации и даже ограничения: «я могу любить только тех у кого такая же боль». Боль — еще одна важная для книги категория: Гутникова исследует ее лингвистически, и разговор на других языках, немецком и иврите, здесь неизбежно связывается с проблематикой исторической травмы (в сторону можно заметить, что «рыбка по имени ривка» проблематизирует и еще одно явление — отдельное бытование русскоязычной еврейской поэзии).
Соединение разных микрожанров можно сравнить с лоскутным одеялом (излюбленная феминистская метафора), но можно и с рывками в разные стороны. Такие рывки (рыбки, ривки) призваны расшатать ограниченное пространство. «Рыбка» — нежное и вольное существо: «Я часто чувствую себя рыбкой, птичкой, школяром, малышкой», — говорила Алла Гутникова в суде. Но рыбка часто ассоциируется с аквариумом — и тут вспоминаются слова Олега Юрьева о поэтах его поколения (габитуса, судьбы) как о «рожденных в аквариуме, но умудрившихся дать деру, когда, при очередной смене воды, нас пересаживали из банки в банку». Два раздела книги тематически и хронологически соответствуют двум заключениям: карантину и домашнему аресту. Благодаря технологиям (той самой смене воды, только со знаком «минус») одно как бы перетекает в другое: «зимняя школа в зуме you are frozen you are muted отогрей меня господи сделай так чтобы я могла говорить». Как можно работать с этим ограничением? Может быть, именно расшатывая его изнутри разными жанровыми/формальными приемами. Например, списком:
все что мне осталось от бывшей жизни:
— карта пациента-участника акции день диагностики меланомы
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
— записочка «дорогому другу алле с приветом из стокгольма от фрикадельки николки ♡»
— мастерская герберта маркузе, группа 2. программа курса
— справка дана гутниковой алле михайловне, 1998 г.р. в том, что она действительно является студенткой 4 курса бакалавриата очной формы обучения факультета гуманитарных наук национального исследовательского университета «высшая школа экономики»
— читательский билет библиотеки иностранной литературы
— читательский билет тургеневской библиотеки
— читательский билет российской государственной библиотеки
— читательский билет библиотеки гаража
— скан статьи сергея ромашко о вертеромании
— стипендиальная карта втб-мир
— дебетовая карта сбербанка momentum r
— два просроченных загранпаспорта
— восемь ультразвуковых исследований органов малого таза
— листок с возвращения имен: ефим семенович митин, 64 года, старший конюх колхоза в селе рубецкое, расстрелян 8 декабря 1937
— социальная карта москвича
и т. д.
Или, например, попыткой сформулировать свое поэтическое/политическое кредо, которое моментально встречает противодействие — нервные или даже ехидные вопросы к самой себе. Или, например, введением в текст эмодзи — как иронической иллюстрации, чего-то вроде наглядного подтверждения старой тютчевской мысли о том, что мысль изреченная есть ложь. Если тут нет своего отчетливо манифестированного языка, тут есть свой эстетический метод, отчетливо связанный с многообразием и инклюзией: выясняется, что они помогают, даже когда человек, казалось бы, остался один.
Кирилл Марков. «Схемы движения человеков». М.: Стеклограф, 2023
 Кирилл Марков — поэт и рок-музыкант, суперфиналист Московского слэма — 2021. Основная часть его книги — тексты, работающие как раз в слэмовом качестве: они рассчитаны на декламацию и построены на обыгрывании узнаваемых мемов («я видел некоторое дерьмо, и оно меня тоже»). Тут есть саморазоблачительность — она же ироническое обнажение приема: «Не стесняться личного / Помноженного на публичное / Вкусного фарса и китча / Чтоб причмокивали как на пиццу». Неприятно, да попросту безвкусно написано — но всегда можно сказать, что это нарочно.
Кирилл Марков — поэт и рок-музыкант, суперфиналист Московского слэма — 2021. Основная часть его книги — тексты, работающие как раз в слэмовом качестве: они рассчитаны на декламацию и построены на обыгрывании узнаваемых мемов («я видел некоторое дерьмо, и оно меня тоже»). Тут есть саморазоблачительность — она же ироническое обнажение приема: «Не стесняться личного / Помноженного на публичное / Вкусного фарса и китча / Чтоб причмокивали как на пиццу». Неприятно, да попросту безвкусно написано — но всегда можно сказать, что это нарочно.
На полном серьезе Марков тоже работает с неприятным — и порой кажется, что рифма для него не лучшая союзница. Страдания в урбанистическом постапокалипсисе, выложенные кирпичом перекрестной рифмовки, дублируют саму невзрачную фактуру, о которой идет речь:
Мы — вечно современное искусство.
Мы — встроенность в бетон и образ жизни.
Мы — стройка, имитация и мусор,
Сентябрьские жестяные листья.
<...>
И знаки отсылают к тем же знакам,
Витрины — к вывескам, а вывески к витринам,
И каждый — уникально-одинаков,
Застрявши в своей точке паутины.
Можно, опять же, зайти со стороны слэмовой экспрессии: «Город, этажия кофем обрызгав, / Разверг предприятий райки да адки. / Каторжане припали к ритейлу огрызков. / На будничных картах — курьеров глазки» — но Маяковский, к которому прямо обращено это стихотворение, давно уже не нуждается в стилистических оммажах (а вот «трибьют Нине Искренко» пока что вполне работает).
Словом, об этой книге стоило бы говорить максимум как о симптоматичной для своей среды — но в ней есть пролог, заставляющий посмотреть на Маркова как на поэта другого склада. Этот пролог, «нанопоэма 31», — последовательная программа приземления: материал тут — ассортимент супермаркетов шаговой доступности и содержание бесплатных муниципальных газет. «автоматы порошки томаты вяленые чародейка / творожки СО яйцо купеческие с перцем огурцы», «путь сквозь тьму частного сектора / к щиту-ориентиру с полковником сандерсом», «бисер пассажиропотока» — от всего этого несет такой точно переданной тоской, что не спасает ни звукопись, ни скупые тропы. Если Пригов находил в рутине возвышенность, Данилов умиление, а Васякина — повод для прекарного гнева, то Марков не находит ничего, кроме убожества. Такие стихи будут писать нейросети, когда осознают, куда же они попали.
Какой-нибудь поэт-народник призвал бы здесь переместиться в леса и села, но такие призывы сегодня привлекают разве что Союз писателей России. Экологические ниши в лесах заняты, пассионарность комсомольско-кровожадного извода ушла в зет-поэзию, а народничество как раз и осело на городских панельках и панелях выхлопным слоем разной толщины. Героя марковской поэмы, помнящего о Борисе Виане и о контркультурных «книгах в оранжевых обложках», хватает на оставшееся незачеркнутым в полностью зачеркнутом стихотворении слово ПОБЕГ, или на горькую шутку, уместную в сторис офисного работника («07:59 / солнце / протягивает мне / ипотеку»), или на слабую надежду, выраженную в форме обратной метафоры (у Бога там все так же, как и у нас, только небесное):
и хочется верить, что все эти видео загружаются
на какой-то особый youtube
где нам всем поставят сакральные лайки
просто за то что мы живём
возможно в поисках этого таинственного видеохостинга
мы и пялимся в телефоны
по дороге домой
в спальные районы
Впрочем, надежда призрачная, потому что наверху примерно то же, что и внизу: «кто-то отскоблил с неба / жвачку облаков». Так Кирилл Марков распоряжается метафорой — но в целом, поскольку перед нами прямолинейная вещь, излишества ей вредят: например, совершенно не обязательно писать «я беззвучно кричал / подъезжая к вокзалу», если эта мимика и так следует из каждой строчки. Та стихия, в которой Марков действительно находит себя, — перечисление. Во второй части книги начинают работать и рифмованные каталоги: «обмены и общества / бездны, пророчества / дроби, пророрции / дворик с пропойцами / улицы, здания / место заклания / томик поэтики / туфли в пакетике». Марков доверяется безотказно музыкально-поэтическим приемам — созвучию, анафоре, — и в этот момент начинаешь доверять его книге. Когда за стихами в ключе раннего Родионова следует заключительная «нанопоэма 17», построенная уже не на каталогизации чудовищно-бытового, а на мрачной игре слов и концептуалистском цитировании, тут хочется кивнуть: умеет («у меня изъяли: / бессознательное / сознательное / знательное / нательное»).
Но вот отдельно стоящие прямые цитаты из Всеволода Некрасова надо бы все-таки обозначать как цитаты — где-нибудь на страничке выходных данных. А то может выйти неловкость: постироничное цитирование легко принять за плагиат.
Андрей Сен-Сеньков. Каменный зародыш. М.; Екб.: Кабинетный ученый, 2023
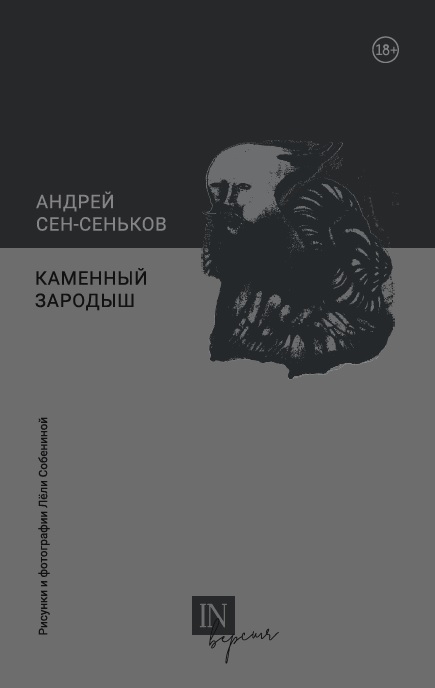 Последняя книга в серии «InВерсия», выход которой прекращен — то ли окончательно, то ли до лучших времен. Для Андрея Сен-Сенькова характерно цикловое мышление. Нынешний сборник — серия обращений к «каменному зародышу», то есть к «дому-улитке» в Екатеринбурге: «я никогда не был в твоем городе / и это единственный повод приехать». Памятник конструктивизма вырван не просто из своей эпохи, но и из любого контекста: «ты просто домик / странный изогнутый домик / <...> ты похож на казино где специально нет окон / а на стенах никогда не вешают часы». Дом-улитка — символ нереализованных потенций принудительно свернутого (pun intended) конструктивизма; «дом-улитка» — тавтологическое словосочетание (потому что улитка, как мы помним с детства, носит на себе свой дом), но тавтологии Сен-Сенькову интересны, как и все небольшие сдвиги нормативности внутри языка: в значительной степени эти сдвиги образуют его поэтику.
Последняя книга в серии «InВерсия», выход которой прекращен — то ли окончательно, то ли до лучших времен. Для Андрея Сен-Сенькова характерно цикловое мышление. Нынешний сборник — серия обращений к «каменному зародышу», то есть к «дому-улитке» в Екатеринбурге: «я никогда не был в твоем городе / и это единственный повод приехать». Памятник конструктивизма вырван не просто из своей эпохи, но и из любого контекста: «ты просто домик / странный изогнутый домик / <...> ты похож на казино где специально нет окон / а на стенах никогда не вешают часы». Дом-улитка — символ нереализованных потенций принудительно свернутого (pun intended) конструктивизма; «дом-улитка» — тавтологическое словосочетание (потому что улитка, как мы помним с детства, носит на себе свой дом), но тавтологии Сен-Сенькову интересны, как и все небольшие сдвиги нормативности внутри языка: в значительной степени эти сдвиги образуют его поэтику.
Сен-Сеньков прослеживает грустную биографию дома («ты появился / чтобы быть детским садом», «в девяностые к тебе приходили несмешные клоуны»), но затем отталкивается от нее ради ассоциативного путешествия. Уже в пятом стихотворении дает о себе знать его врачебная профессия (специалист по УЗИ): «ко мне на работу часто приходят мертвые ты / они немного старше тебя / у них уже есть ручки-ножки / и сердце / которое больше не бьется»: так от дома-зародыша мы приходим к зародышу настоящему (а эпитет «каменный» заставляет вспомнить о литопедионах — кальцинированных, «окаменелых» зародышах, которые иногда образуются при внематочной беременности: трагический медицинский курьез, порой остающийся незамеченным на протяжении десятилетий). Дому / неродившемуся человеку придумывается биография, от предпочтений в живописи до вымышленных заболеваний и душевных страданий — все от той же не-до-конца оформленности:
все эти годы
бог лез внутрь тебя
каким-то нелепым человеком
как мокрой чайной ложкой в сахарницу
К основному корпусу цикла как бы пристегнуты девять дополнительных стихотворений — «кирпичиков, вынутых из зародыша на память». На первый взгляд, это кажется просто способом собрать новые вещи под одной обложкой; затем замечаешь, что с темой дома, так и не ставшего чем-то бо́льшим, мотивы этих стихотворений тоже перекликаются: например, стихотворение «День Лисы Патрикеевны в детском саду» напоминает об изначальном предназначении дома-улитки, а другие тексты вновь ясно говорят о материнстве и старости:
хорошо когда у мамы болезнь альцгеймера
звонит через полчаса
после предыдущего звонка
и заново рассказывает о кленах
которые сегодня видела
Книгу сопровождают хорошие иллюстрации Лёли Собениной и эссе Руслана Комадея об этом «непредсказуемом», «всегда разном» доме: рассуждения о внутренней динамике здания здесь подкрепляются его фотографиями и архитектурным планом. В целом это вещь трогательная и непривычно по нынешним временам камерная — хотя Сен-Сеньков всегда был мастером такой камерности.
Никита Левитский. Слова рассеют тьму. Метажурнал + Издательский проект «Паразитка», 2023
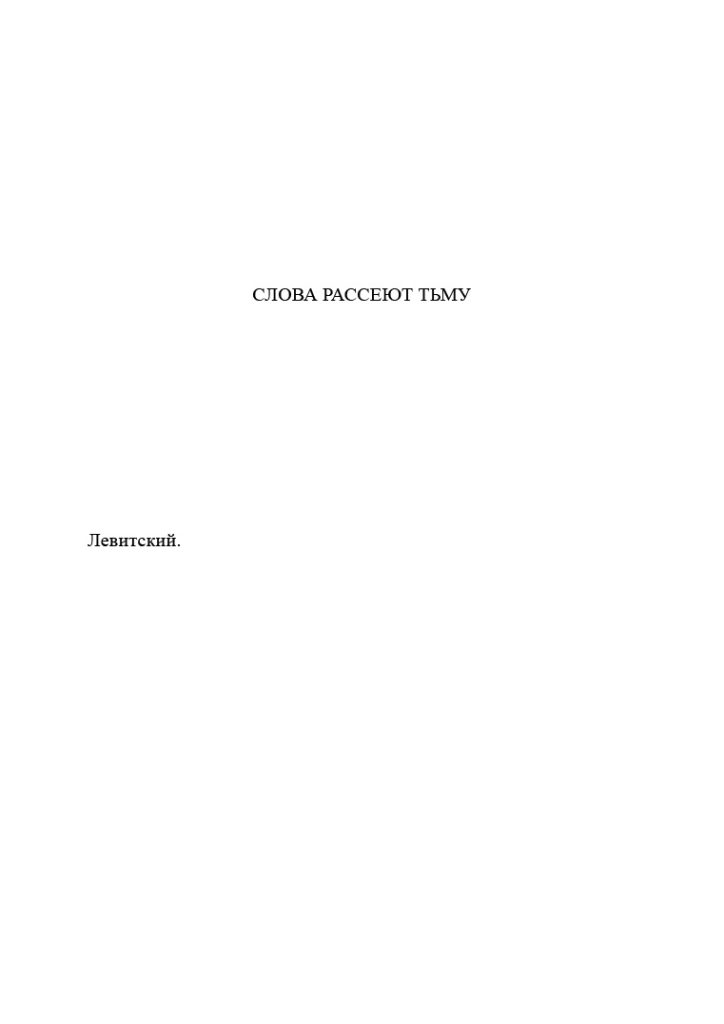 Вышедшая только в электронном виде книга Никиты Левитского — опыт развертывания эпической по масштабу поэтики на довольно небольшом пространстве. Если книга Сен-Сенькова — попытка высвободить потенциал застывшей конструктивистской сдержанности, то Левитский, наоборот, сгущает в своих текстах нарративную избыточность, а крик высвобождать не надо, он прорывается сам:
Вышедшая только в электронном виде книга Никиты Левитского — опыт развертывания эпической по масштабу поэтики на довольно небольшом пространстве. Если книга Сен-Сенькова — попытка высвободить потенциал застывшей конструктивистской сдержанности, то Левитский, наоборот, сгущает в своих текстах нарративную избыточность, а крик высвобождать не надо, он прорывается сам:
ужас из моря мы тащим за собою черные водоросли и слизь
где мы сварились;
что обжилось — не уйдет само; на унылом побережье
зрим бесцветный огонь купины
а ночью лишь в компании мыслей, тупых и тяжких, как костная боль
баюкающих и не дающих покоя
пылающих и бесцветных
шершавых и скользких
ломких, сухие цветки шеи
обреченные — они сбиваются в стаи, как волны, — ни голосов ни имен
под кроватями прячут гнезда
шар вертится как пустой волчий череп пустыни
плавильным одеялом укрытый
Долгие раскатистые периоды, барочные перечисления, экстатическая речь, политический гнев — когда думаешь об их прецедентах, прежде всего вспоминаются поэмы Аллена Гинзберга, такие как «Америка», «Сутра подсолнуха» и «Вопль» (в конце 2022-го мне случилось слышать живое выступление Левитского, которое как раз и представляло собой один надрывный и бессловесный вопль — впечатление было мощное). За разомкнутость конструкции отвечают эротические мотивы: «уника, мастурбирующей и нетленной я вижу тебя» — так начинается первый текст книги, безымянная поэма. Постепенно эротика включается в общее горение, становится незамалчиваемой нотой, как бы обнимает книгу, посередине которой находятся очень жесткие тексты. Окруженный мраком, Левитский говорит о «травмомахии мотыльков» (то есть находится рядом со светом, на который эти мотыльки летят); устами своей героини он поет гимны любви и экстазу — и обилие сюрреалистических образов не противоречит здесь связности. Где-то поэт говорит про сад, то есть воплощение упорядоченной природы, которое у Левитского еще и антропоморфно: «у сада есть твердые груди на тонком, как отраженье в воде, тростнике / сад почти слеп, но у него есть нежная кожа» — трудно не заподозрить, что речь здесь больше о человеке, чем о саде. Но в других местах стихи описывают джунгли — и, кажется, разрастаются как джунгли, в которых все перемешивается:
я слышу как среди тьмы кто-то смеется на ужасной пальме
я слышу как кто-то древесный вспоминает свои прошлые жизни
слышу как доносится из китайской комнаты что-то похожее на скреб ногтей или когтей
как ворчат соседи — жалуются на франца кафку, который смеется, пока пишет ночами
«этот странный автопортрет»
змея считает мои шаги
слюна оборачивается шелком в осколках наших любимых дней
У Спайка Миллигана есть мизантропическая сказка «Грустно-веселая история лысого льва», прекрасно переведенная Григорием Кружковым; там как раз описываются Джунгли, в которых, в свою очередь, есть Дебри, ну а у Дебрей «есть такое свойство: если что-нибудь в них теряется, найти это совершенно невозможно. Можно найти взамен что-нибудь другое, но не то, что пропало». Это свойство воспроизводится и в поэме Левитского — то, что находится взамен, всякий раз охотно принимается. В походе через тропический лес текста кое-что все-таки можно сохранить: составную нить своей речи. Даже если она много раз обмоталась вокруг стволов, ее хватит, чтобы пройти путь до конца. Аллен Гинзберг говорил о «единицах дыхания», на которые членятся его тексты — у Левитского дыхания достаточно для очень затяжных перемещений. Лысый Лев в детской сказке Миллигана находит Бога — героиня поэмы Левитского тоже встречает какое-то хищное и жестокое божество, «ленивого живоданского зверя», которого в конце концов побеждает самой своей нежностью.
А затем благостное впечатление переворачивают следующие тексты книги. Равно вместительные, они решают не нарративную, а лирическую задачу. И вот в поэме «Авто портреты: я» находит выход гнев — обращенный, допустим, на покойного переводчика Михаила Яснова, «умудрившегося напрочь лишить интонации большой и пронзительный текст Блэза Сандрара», или на социум в целом, который даже в умозрительном революционном перевороте сохраняет инертность: «И я вижу людей наконец охваченных единодушием: / Так чтут они предков, так похожи на них, будто сквозь кожу проступают татуировки / Преступники, полицейские и попы сошлись в нестерпимом презрении / Революционеры, менады и кроткие оседлали слонов ганга-рао / Гэбисты покидают университеты с портретом Варлама Шаламова / И всем им, словно рвотный позыв, так тяжко сдерживать зов пустить эту голову с лестницы». Или на газ «Норд-Оста», или на садизм военных преступлений, или на «вскормленного вами диктатора», или на «сезон сбора антрацита человеческих органов»; или на старость и смерть, или на необходимость трансгрессии в мире, который одними заголовками новостей уже давно перетрансгрессировал все, что можно; или на усталость от ужаса, потому что «много чего ужасного рождается из нежелания ужасаться». Интонация меняется, и становится ясно, что долгие единицы дыхания больше подходят для отчаяния, чем для нежности:
Ты просыпалась в холодном поту, понимая меня
Баржа, которая выплакала черный камень и бросила его на полюс
Черный камень Норильск, черный камень весна, и мимоза прокалывает колено
На Мадейре местные закусывали пиво рыбьими глазами
Ты родила меня почти всего и наконец выплакала холодную костяшку
Что я ношу венцом кулака — грызу ее, бьюсь ей о стены, прикладываю к глазу, когда он подбит — к губам, когда шепчу.
Какое отчаяние или радость заставили тебя выдавить эту
Ощетинившуюся сразу желтыми перьями, чешуей и хитином трехкилограммовую мозоль связи с мужчиной?
Двадцать лет я жил на границе метаморфоз, как юный ключник,
Наблюдая злость ребенка с фантазиями монаха, играющего в саду со шлангами
Покой лишен кружев. Больше не тки больше подробностей, чем сможешь забыть
Давай присядем на этот камушек, мама, там места не будет
Перечисления уже не напоминают потлач: они влетают в уязвимое тело из чрезмерного мира, из травматичного инфопотока, из кстати и некстати подворачивающихся цитат, и тело кричит, бормочет, вздрагивает («я постоянно испытываю муку рождения»). В то же время оно наблюдает за собой. Расподобление поэта и говорящего — основа лирики, и у Левитского оно происходит максимально зримо; вместо «иди и смотри» нам говорят «бери и читай», «читай и различай», «различай и соединяй».
Современность при ее работе с телом сохраняет кенозис, но вытравляет из его описания возвышенность. Остается лишь ее ритмический костяк, напоминающий о сакральном истоке той поэтической цепи, в которую встраивается Левитский. «Скрежет гулкий самоубийств младенцев классы бодрит, / а мы сглатываем слюну и возвращаемся в классы» — говорится в тексте, где еще повторяется: «Хочу я сладкого сына, который вырастет и умрет». Кажется, ясно, от Чьего имени здесь пытается говорить поэт. Книга «Слова рассеют тьму» — игра по очень большим ставкам.