Сергей Румянцев. Книга тишины. Звуковой образ города. М.: Бослен, 2021. Содержание
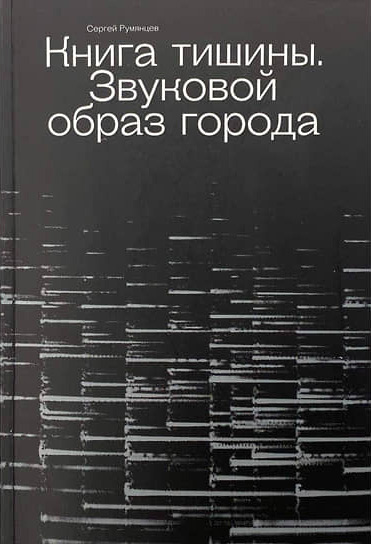
1. Вектор шума
Есть замечательная порода книг, о существовании которых мало кто догадывается, но которые рано или поздно находят своего читателя, чтобы тот, перевернув последнюю страницу, смог немного возвыситься над миром и выступить с обличительной речью о культурной слепоте интеллектуального сообщества, долгие годы не замечавшего такую сильную, неординарную вещь. Этим мы и займемся, держа в руках «Книгу тишины» Сергея Юрьевича Румянцева.
Ее автор — музыковед, преподаватель Государственного института искусствознания, многолетний редактор «Российской музыкальной газеты». Над «Книгой тишины» Румянцев работал с середины 1990-х до своей гибели в 2000 году. Впервые она вышла в издательстве «Дмитрий Буланин» через три года после смерти автора. Сейчас это издание в бордовом переплете — библиографическая редкость, которую можно даже не искать.
К счастью, главный, пусть и неоконченный труд Сергея Юрьевича вновь стал доступен — за это надо поблагодарить музыканта Петра Айду, подготовившего второе издание книги. Сам Айду признается, что узнал о «Книге тишины» случайно, однажды заметив ее в витрине ГИИ. На долгие годы она стала для него смыслообразущей как для теоретика и практика музыки. Правда, в предисловии составитель оговаривается: «Публикуемые в этом издании тексты все „несвоевременны”, они все написаны давно и находятся в уже несуществующих „системах координат”».
Нам, конечно, не хватает погруженности в мир академической музыкальной теории в ее актуальном состоянии, чтобы оценить, насколько справедливы эти слова Айду. Однако мы из своего, книжного, угла не можем с ними согласиться. Во-первых, «Книга тишины» вышла на волне нового интереса к sound studies — на рынке одно за другим появляются значимые издания по этой теме, а «Новое литературное обозрение» запустило под них уже изрядно разрекламированную (и многообещающую) серию. Во-вторых, что более важно, она попадает в русло читательского запроса на литературу, скажем так, непосредственного переживания (в диапазоне от аффективного письма Ника Ланда до недавнего лирико-философского эссе Оксаны Тимофеевой «Родина»).
Диктат чувственного восприятия действительности проходит через всю книгу Румянцева, идет ли речь о далеком прошлом или современности. Об этом Сергей Юрьевич прямо заявляет в таком пассаже, посвященном протестам против фальсификаций на выборах в Югославии: «Три месяца непрерывных демонстраций в Белграде интересуют меня только с одной — звуковой — стороны. А также со стороны психологических последствий для жителей города, три месяца находившихся в экстремальной звуковошумовой обстановке. Впервые в таких масштабах, с такими серьезными целями был применен свист». (Звуковая сторона белградских волнений 1996–1997 годов, судя по всему, и правда была впечатляющей).
То, что мы привыкли называть политическим, и правда не особо волнует Румянцева. И это при том, что значительная часть неоконченной книги посвящена музыке Октябрьской революции, Гражданской войны и эпохи НЭПа. Главным героем этого раздела «Книги тишины» становится Арсений Михайлович Авраамов, он же Реварсавр или просто Арс — совершенно феноменальный теоретик музыки, предвосхитивший поиски пионеров электроакустики. Теоретические труды его сейчас не особо известны широкой публике, но зато каждый хотя бы слышал о самом амбициозном из его реализованных проектов — «Симфонии гудков» (впервые исполнена в Баку 7 ноября 1922 года).
Сейчас это монументальное полотно, в котором были задействованы артиллерийские орудия, заводские гудки и эскадрильи аэропланов, обычно воспринимают как сугубо формалистский эксперимент по поиску «новой музыки», которая отразила бы идеологию человекостроительства в условиях военного коммунизма. В лучшем случае «Симфонию» полуиронически помещают в контекст истории нойза и индастриала. И это совершенно естественно, ведь суть грандиозного замысла Арса не уловили даже многие современники. Так, архитекторы Яков Райх и Николай Исцеленов даже обвинили композитора в плагиате. Дело в том, что в 1919 году дуэт запатентовал орган из заводских гудков. Использование гудка в качестве одного из ведущих инструментов в «Симфонии» Исцеленов и Райх посчитали единственным содержанием произведения Авраамова.
Художественно-философская концепция Арса, однако, выходила далеко за рамки аляповатых авангардистских экспериментов. В первую очередь Румянцев указывает на то, что Авраамов принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах, где приобрел то, что Сергей Юрьевич называет «экстраординарным слуховым опытом». Действительно, большинство из нас о шуме войны знают лишь по фильмам, в которых мы, сами того не замечая, раз за разом слышим одни и те же записи боев из голливудских (ну или мосфильмовских) архивов. Между тем каждый находящийся в зоне вооруженного конфликта понимает, что звук — это едва ли не основной источник информации, от которой зависит выживание: довольно скоро человек учится на слух определять расстояние до работающего орудия и даже его калибр. В сознании композитора, различающего тончайшие нюансы шума, это не может не стать материалом для художественного высказывания.
Впрочем, перенос звуков войны в пространство праздника — прием, хорошо изученный еще в царские времена. Куда более интригующий аспект «Симфонии», который в наше время ускользает от слушателя, — то, что гудок до какого-то времени был для человека центром мироздания. По его сигналу люди приступали к работе и по нему же ее завершали. Звук гудка посреди рабочего дня возвещал о чрезвычайной ситуации, требующей незамедлительных коллективных действий. Гудок в промышленную эпоху взял на себя функции церковного колокола, инструмента, который, согласно Румянцеву, и является ядром нашего национального звукокосмоса. Такое прочтение «Симфонии» помогает моментально обнаружить место Авраамова на карте русского авангарда, использовавшего не только революционную риторику, но и глубинные народные и религиозные идеи. Что особо примечательно, многие непосредственные слушатели «Симфонии гудков» интуитивно уловили этот замысел композитора. Румянцев приводит, например, такое свидетельство из газеты «Известия»:
«Захватывающее впечатление произвел отклик гудков московских фабрик и заводов и паровозов железных дорог. Этот могучий отклик со всей Москвы долгое время колебал воздух, напоминая издали грандиознейший колокольный звон».
Но, как и политика, религия на страницах «Книги тишины» занимает автора не как абстрактная система, а как практическое средство организации жизни человека и одновременно ключ к познанию его бытийствования в этом мире. В границах этого труда религия в ее кристаллизованном виде фигурирует как поэтическая зацепка за первооснову звука. «В начале было Слово» — учит Евангелие. Румянцев вносит важное уточнение: как всякое Слово, оно звучало. Это наблюдение перекликается с известным текстом Павла Флоренского «На Маковце», открывающим «У водоразделов мысли». Этот миниатюрный, но крайне необходимый для философствования о звуке текст служит точкой отсчета и для сложноустроенной книги Румянцева.
«Сложноустроенность» в данном случае не эвфемизм для «запутанности» или «мудрености». Напротив, мысли автора «Книги тишины» предельно прозрачны, но следуют они согласно очень специфической логике. Структура этой незавершенной книги постоянно менялась, и можно лишь догадываться, насколько тот вариант, который мы имеем, близок к конечному замыслу Румянцева.
В этой хаотичности (или альтернативной упорядоченности?) в правах уравниваются история самодеятельных шумовых оркестров времен НЭПа и свист снегирей в Теплом Стане, эстетические поиски колоколиста Константина Сараджева и свиной пузырь, которым бил по головам музыкантов дирижер «Синей блузы». Подобно тому, как мы ежедневно прикасаемся к случайному набору предметов, одни из которых нас отталкивают, другие, наоборот, привлекают, так и слух Румянцева непрерывно соприкасается с массивами звуков, требующим немедленного осмысления в контексте общей акустической биографии мира.
Такой мелкий раздражитель, как звук лопаты дворника, счищающего наледь, становится для Румянцева целым космосом со своей историей развития. Цитируя воспоминания художника Мстислава Добужинского, Сергей Юрьевич обнаруживает, что в этом звуке мемуаристу слышалась незамутненная радость. Для человека современности скрежет металлической (а не деревянной) лопаты на рассвете — один из самых травмирующих фрагментов городского аудиоландшафта. Да, такие наблюдения — часть общей консервативной и даже антипрогрессистской повестки Румянцева. Но и в своем ностальгическом традиционализме он риторически обращается исключительно к живому звуку, а не к обветшалым умозрительным идеологиям.
К несчастью, Сергей Юрьевич не успел раскрыть многие мысли, набросанные штрихами. Думаем, как минимум небольшая главка о звуках дантовского «Ада» напрашивается на развернутое исследование, как и раздел, посвященный звуковой повседневности 1920-х.
Обладая патологически обостренным слухом, Румянцев обнаруживает скрытые смыслы в самых заурядных акустических явлениях. Интереснейшие страницы «Книги тишины» посвящены «зубарикам», одному известному развлечению беспризорников, арестантов и просто низших слоев общества. Представляет оно собой технику звукоизвлечения, которая заключается в выстукивании мелодии ногтями по зубам. Это музицирование для самых бедных, рожденное из голода, холода и прочих спутников разрухи.
«Зуб и ноготь — „живая кость”: растущая, обновляющаяся на глазах, видимая, обнаженная. <...> Только зубы и ногти звучат „в открытую”, издают повседневные, посюсторонние, нежуткие звуки. <...> Всем знаком и первый „аккорд”, рождающийся в грызке ногтей: он звучит совсем не грозно и абсолютно по-детски... <...> Примитив „зубариков” — первобытен. Архаична сама звукоидея, ее физиологический „минимализм”: звук извлекается прямо из тела (даже из его костяка), без участия одухотворенного голоса (пения) и без посредничества инструмента (даже такого, как варган, пробка, карандаш и пр.). Сам звук — щелк-треск — темен, смутен, на грани непроизвольного и преднамеренного, шума и тона — подобно невнятице детского лепета, в котором, однако, угадывается будущая речь. Эта „детскость” прямо выводит на главное: пронзительное ощущение прорастания, прорезывания, распускания. В неясном щелчке-треске вдруг забрезжила „музыка”». И так далее.
Философствуя, Румянцев, однако, почти не апеллирует напрямую к академическим мыслителям. За исключением Флоренского он обращается разве что к Хайдеггеру, причем, разумеется, к его хрестоматийному рассказу «О тайне башни со звоном». Куда больше Румянцева волнует то самое непосредственное чувствование, о котором мы говорили в самом начале. Вместо абстракций и умозрений Сергей Юрьевич обращается к художественной, научной и технической литературе, причем не самой очевидной — вроде прозы Сигизмунда Кржижановского (звуко-бытовому анализу его «Состязания певцов» отведено несколько очаровательных страниц).
К слову, составители включили в новое издание «Книги тишины» некоторые тексты, важные для Румянцева. Помимо упомянутого рассказа Кржижановского, это посвященный Константину Сараджеву «Сказ о звонаре московском» Анастасии Цветаевой, «Искусство шумов» Луиджи Руссоло, орнитологическая статья Г. П. Дементьева и В. Д. Ильичева «Голос птиц и некоторые вопросы его изучения», отрывок из устава церковного звона и так далее. Правда, уместность этих издательских вставок — вопрос дискуссионный. «Мне кажется, это как американцы банки к свадебному кортежу привязывают для пущего грохота», — сказал один наш коллега по этому поводу. Мы с ним не согласны, но такую позицию понимаем.
2. Вектор тишины
Читатель уже мог заметить, что в нашем рассказе о «Книге тишины» до сих пор не появилось самой тишины. Дело в том, что Сергей Юрьевич категорически отказывается понимать тишину как отсутствие звуков. Это словарное определение, по Румянцеву, подходит только одному типу тишины — мертвой тишине «брошенных заводов, фабрик, деревень». Подлинная тишина, напротив, состоит в куда более сложных отношениях с шумом, чем взаимное отрицание.
«Мир, покой, согласие, лад — вот что делает тишину действительно глубокой. Глубинные понятия, идеалы, составляющие радость и счастье жизни, входят в закрепленный русским языком круг значений слова „тишина” — так же, как и тишина входит в „состав” счастья. Блаженство, благость, благодатность, благотворность тишины известна издревле, и более всего горожанам, живущим в скученности, сутолоке, суете, стукотне, болтовне и шуме».
Два основных вектора музыки — религиозный и светский — следуют из организованной тишины. Румянцев указывает, что в религиозном сознании первейшим препятствием на пути к Богу служит «искушение слуха». Противостоять ему и призваны каменные стены храмов, скитов, своды пещер, в которых находят пристанище отшельники. Только в этой организованной тишине возможна чистая молитвенная музыка. Нетрудно заметить, что тем же путем пошла и светская музыка, полноценное существование которой возможно лишь в искусственно созданной тишине концертных залов.
В этом рассуждении Румянцев делает один из самых изящных выводов в книге: «Что же касается рождения музыки, песен, наигрышей, ритмического сопровождения танцев и пр. в толщах низового народного быта — то это есть одна из величайших тайн звукомира и в каком-то смысле непрестанно свершающийся подвиг юродства. О Христе ли — другой вопрос».
И совсем другой вопрос мы хотели бы задать самим себе в финале нашей небольшой заметки. Звучит он так: «За что мы не любим sound studies?» Видимо, за то, что под этим брендом зачастую скрывается заурядный рассказ о музыке, которая нравится автору, принявший наукообразный вид. Сон разума рождает чудовищ; журналистика надевает камуфляж социологии и рождает блэкметаллические гендерные исследования; меломан-нарцисс получает докторскую степень и проводит антинаучные эксперименты, не добавляющие ни полрубля в копилку человеческих познаний. Левая рука читателя сама тянется к гвоздю потолще, чтобы вколотить его в голову (одну на всех) самозванных исследователей звука, не понимающих ключевой задачи выбранной дисциплины.
А ключевая задача исследователя звука заключается в том, чтобы, услышав шуршание красного поролонового носа, определить, кто его нацепил: бергмановский артист или страшный клоун Пеннивайз? «Книга тишины» Сергея Румянцева может многому научить тех, кто решился освоить это непростое искусство.
