Предатель грезит: пять книг недели
Cамые интересные новинки по версии «Горького»
Мортен Тровик. Предатель в Северной Корее. Гид по самой зловещей стране планеты. М.: Individuum, 2020. Перевод с норвежского Евгении Воробьевой
 Художник и режиссер Мортен Тровик многим известен как человек, который устроил в 2015 году первый в истории концерт западной рок-группы в КНДР, да не абы какой, а индустриальных провокаторов Laibach, и потом еще выступил режиссером фильма об этой поездке, взявшего несколько наград.
Художник и режиссер Мортен Тровик многим известен как человек, который устроил в 2015 году первый в истории концерт западной рок-группы в КНДР, да не абы какой, а индустриальных провокаторов Laibach, и потом еще выступил режиссером фильма об этой поездке, взявшего несколько наград.
Это не единственный вклад Тровика в развитие культурных отношений Северной Кореи с «демократическим» миром. Норвежец стал первым художником, который одновременно выставлялся с одной и той же экспозицией в КНДР и США — странах, по факту находящихся в состоянии войны. Гений коммуникации привозил в Пхеньян и других, помимо Laibach, деятелей контемпорари-арта, а в Норвегию — северокорейские делегации, и был в общей сложности двадцать с лишним раз в едва ли не самой закрытой стране мира, посетив 9 из ее 12 провинций. В общем, все данные, чтобы написать компетентный гид по уникальному государству, у норвежца есть, кажется, в избытке.
Почему же тогда «предатель»? Как справедливо замечают критики, предательство Тровика носит двойной характер. С одной стороны, западные правозащитники напрямую обвиняют режиссера в том, что он обеляет «бесчеловечный режим». А с другой — несмотря на внешнюю благопристойность и вежливейшую корректность, северокорейские идеологи если не чувствуют, то смутно догадываются, что «культурные мосты», которые наводит Тровик, заминированы.
Похожая, но иного рода двойственность составляет самую сильную сторону текста. Тровик не пытается «озловещить», демонизировать Северную Корею, равно как и представить ее чем-то «нормальным». Его больше интересует вопрос: как и почему люди живут и выживают в столь странной форме общежития?
Основная метафора, к которой Тровик прибегает, чтобы объяснить завороженность северных корейцев идеологическим мороком, связана с театральным бэкграундом автора: любое государство — это театр, а тоталитарное государство — театр особенный, где каждому жестко предписана своя роль. Следовательно, чтобы сохранить (в том числе психическую) целостность (а то и жизнь), необходимо довериться Станиславскому и отождествить себя с персонажем, роль которого тебе начертана властями.
Отсюда искренние — не отличимые от наигранных — слезы на похоронах вождя; показная — не отличимая от подлинной — свирепость в выражениях лиц солдат на парадах. Российского читателя вряд ли оставит равнодушной авторская ремарка: «Вообразите себе „Парк советского периода” — отчасти из ностальгии, отчасти как альтернативный вариант истории — в восточноазиатской стране и получите довольно точное первое впечатление от Северной Кореи».
Гид сложно использовать по его прямому назначению, в качестве путеводителя, хотя все формальные черты — от описания достопримечательностей до рецептов местной кухни — присутствуют. Скорее, под гид мимикрирует не всегда ровная, местами дурашливая, но увлекательная — в силу специфичности предмета — эссеистика о заглядывании «в другую реальность», которая, если приглядеться, функционирует не по столь уж радикально иным законам, чем наша собственная.
«Едва ли можно упрекнуть Северную Корею в полноценной гомофобии. Описывая повседневную жизнь на родине, беженцы рисуют картину достаточно расслабленного менталитета — по крайней мере в отношении немногих проявлений отклонения от сексуальной нормы. Мне доводилось слышать истории и о деревенских трансвеститах, и о людях одного пола, проживающих вместе в преклонном возрасте. Не говоря уже о большой регулярной армии. Сексуальность как вода. Она может течь в другую сторону, но никогда не останавливается. И вполне очевидно, что, если срок обязательной службы в армии составляет до 10 лет, проходящих в богом забытых местах вдалеке от больших поселений, это непременно приведет к тому, что у очень многих мужчин в отсутствие альтернатив рано или поздно появится сексуальный опыт с другими мужчинами. К тому же официальная пропагандистская эстетика Северной Кореи гораздо ближе к кэмпу, чем осознают сами северокорейцы. На самом деле представители гей-культуры нашли бы много интересного в КНДР. Любители эксцентричного жанра наверняка оценили бы откровенную, почти опереточную сентиментальность, которой пронизаны практически все произведения местного искусства; кричащие расцветки блузки чогори, входящей в национальный костюм, — а также безудержный размах, с которым декорируются все официальные мероприятия. Тем, кто предпочитает более брутальный стиль, придутся по душе мужчины в униформе и типичное для социализма поклонение грубой силе. А пропагандистские изображения мускулистых рабочих и военных неуловимо напоминают творчество Тома из Финляндии. Как бы то ни было, гомосексуальному туристу дискриминация не грозит, если только он сам не полезет на рожон. И даже если вы наденете боа из перьев и леопардовые стринги и исполните песню „I will survive” посреди площади Ким Ир Сена, это вызовет скорее недоумение, чем агрессию. (Если честно, я не пытался.) Однако правила одинаковы для всех: если вы хотите заняться сексом в Северной Корее, вам придется сделать это с другим иностранцем».
Бенджамин Мозер. Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века. Биография. М.: Бомбора, 2020. Перевод с английского Алексея Андреева
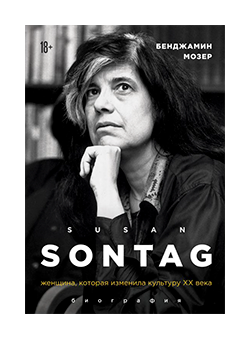 У экономиста Нассима Талеба есть забавный пассаж о встрече с Сьюзен Зонтаг — по характеристике издателей, «символом американского литературного мира конца XX века». Талеб и Зонтаг познакомились на радиостанции в Нью-Йорке, куда литераторка пришла дать интервью.
У экономиста Нассима Талеба есть забавный пассаж о встрече с Сьюзен Зонтаг — по характеристике издателей, «символом американского литературного мира конца XX века». Талеб и Зонтаг познакомились на радиостанции в Нью-Йорке, куда литераторка пришла дать интервью.
«Узнав, что я трейдер, она выпалила: „Я против рыночной системы”, — и, не успел я закончить предложение, повернулась ко мне спиной, просто чтобы меня унизить (...), а ее помощница посмотрела на меня так, будто я осужден за убийство ребенка. (...) Нет, как оказалось, она не кормилась с огорода. Два года спустя я случайно увидел ее некролог (...) Сотрудники издательств жаловались на жадность Зонтаг; она выжала из своего издателя Farrar, Straus and Giroux эквивалент нескольких миллионов сегодняшних долларов за роман. Она и ее подруга жили в особняке в центре Нью-Йорка, позднее дом продали за 28 миллионов».
Не слишком уклюжая попытка Талеба поймать Зонтаг на двуличии (на фоне куда более очевидного хамства и снобизма, совершенно типичных для публичных эскапад писательницы) описывает основной моторчик, на котором работает биография знаменитой феминистки, публичной интеллектуалки, режиссера театра, литератора, подруги Бродского и Жаклин Кеннеди etc. etc. (Настолько знаменитой, что ее читают в мультяшном семействе Симпсонов.) Бенджамин Мозер эксплуатирует игру противоречий: высокомерная поза, но ранимая душа, обладательница блестящего образования, но интересуется «низкой культурой», любовница первых красавцев и красавиц всех Штатов, но уверенная в том, что ее тело — «сосуд боли», которое она не чувствует реальным.
Ход не новый, но действенности не теряет. Тем более что Мозер не стремится свести свою героиню к контрастам, а рисует подробнейший, хотя и не лишенный психологической редукции (во всем виновата безразличная пьющая мать) портрет.
На сбор материала у журналиста ушло семь лет, за которые он успел поговорить с шестью сотнями человек, знавших и друживших с Зонтаг. Результат впечатляет как минимум объемом добросовестно проделанной работы, хотя автору, пожалуй, так и не удалось продемонстрировать, каким образом те самые контрасты образуют живую и цельную фигуру влиятельной мыслительницы.
«Желание не замечать своего тела помогало Зонтаг отрицать еще одну неизбежную реальность, а именно сексуальные наклонности, которых она стыдилась. У нее было несколько любовников-мужчин, но подавляющее большинство сексуальных связей Сьюзен было с женщинами. Всю свою жизнь она расстраивалась из-за того, что не в состоянии придумать, как ей выйти из этой нежелательной реальности, и вследствие этого ее поведение нельзя назвать честным ни по отношению к самой себе, ни по отношению к окружающим, в том числе к самым близким. При этом не стоит забывать, что Зонтаг жила в период, когда гомосексуализм перестали порицать. Поэтому главной темой в описании любви и секса (а также в ее личной жизни) был садомазохизм. Отрицание реальности тела являлось также отрицанием смерти с упорством, которое сделало ее собственную кончину излишне ужасной».
Сергей Григорьянц. «Гласность» и свобода. М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020
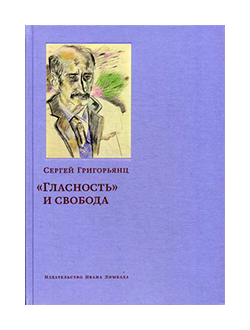 Сергей Иванович Григорьянц — что называется, стреляный воробей и тертый калач. Родился в Киеве в 1941 году. В 1975-м сел на пять лет за антисоветскую агитацию. Выйдя на свободу, распространял в самиздате сведения о нарушениях прав человека в СССР. В 1983-м сел снова, на этот раз на семь лет строгого режима, но вышел в 1987-м по амнистии и тут же продолжил гнуть свою линию — занялся изданием антисоветского правозащитного журнала «Гласность», главного дела своей жизни.
Сергей Иванович Григорьянц — что называется, стреляный воробей и тертый калач. Родился в Киеве в 1941 году. В 1975-м сел на пять лет за антисоветскую агитацию. Выйдя на свободу, распространял в самиздате сведения о нарушениях прав человека в СССР. В 1983-м сел снова, на этот раз на семь лет строгого режима, но вышел в 1987-м по амнистии и тут же продолжил гнуть свою линию — занялся изданием антисоветского правозащитного журнала «Гласность», главного дела своей жизни.
После краха Союза режим Ельцина не принял и беспощадно критиковал действия российских властей в Чечне, из-за чего, по некоторым данным (для автора — неопровержимым, он уверен, что дело в мести силовиков), потерял сбитого (убитого) машиной сына. Как нетрудно догадаться, Григорьянц и по сей день находится в непримиримой оппозиции режиму, хотя «от активных дел» отошел и больше занят коллекционированием картин.
«„Гласность” и свобода» — это завершающая книга автобиографической трилогии. Хронологически автор начинает с 1987 года, первых лет перестройки и основательно погружает читателя в детали появления «Гласности» — одного из первых неподцензурных советских журналов, который рождается и оперирует на фоне непрерывных контратак войны с КГБ. Затем автор переходит к центральной инициативе одноименного с журналом фонда, направленной на создание Международного трибунала по военным преступлениям в Чечне. Повествование завершается в 2003-м, ликвидацией фонда «Гласность» и тем, что Григорьянц называет «концом гражданского общества», или концом правозащитного движения в том виде, в котором он его понимает, т. е. не готового идти ни на какие компромиссы с режимом «тех, кто убивает».
Самое, пожалуй, ценное в «„Гласности” и свободе», помимо массы исторических деталей, которые нигде больше не найдешь, — это интонация автора; ее хочется сопоставить с безжалостным правдоглаголанием, которое скорее ждешь услышать от старообрядческого старца (и трезвость речи несколько затрудняет клеймление автора «демшизой»).
Ради правды (которая отождествляется, конечно, со свободой в высшем смысле), Григорьянц не щадит ни «чужих» ни «своих», потому что его заботит этический вопрос религиозного накала: напомнить «хоть о чем-нибудь» жителям страны, которая «ничему не учится ни на собственной крови, ни на катастрофически упущенных возможностях».
«Высочайшую оценку диссидентам и их движению когда-то дал их противник — капитан КГБ Виктор Орехов, прослушивавший все наши разговоры дома и по телефону, читавший все тексты и знавший о каждом нашем шаге. А в результате реально готовый отдать жизнь (и осознанно шедший на это) за помощь диссидентам так же, как шли в тюрьму и на смерть эти чистые и самоотверженные люди. И как забыть ту атмосферу любви друг к другу, готовности во всем помочь, которая была неотделима в те годы от стремления к правде, обновлению страны и, конечно, к жертвенности. И это были сотни, скорее даже тысячи людей во многих городах. Они никогда (или очень недолго) не называли август 1991 года „своей победой”, а режим Ельцина — „нашей властью”, а потому и оказались не только забытыми, но и преследуемыми. Им не давали ни радио- , ни телеэфира, не брали у них многочисленные интервью. И я рад, что я не с „победителями” и не с их бывшими руководителями и друзьями, а теперь противниками; что оказался с теми, кто видел и понимал, что же на самом деле происходит в стране; с уничтоженными и забытыми самиздатскими газетами и журналами — и единственной подлинно свободной печатью в истории России».
Георг Тракль. Грезящий Гелиан. Избранные стихи в переводах Николая Болдырева-Северского. М.: Водолей, 2020
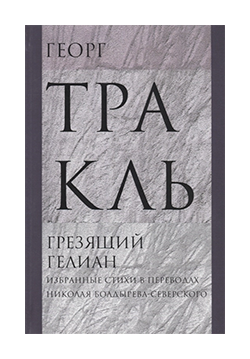 Год назад издательство «Водолей» выпустило в переводе Николая Болдырева-Северского прекрасный томик стихов Пауля Целана, где в предисловии упоминалось, в частности, что полной противоположностью произведениям главного немецкого поэта «после Холокоста» являются тексты группы «Наутилус Помпилиус».
Год назад издательство «Водолей» выпустило в переводе Николая Болдырева-Северского прекрасный томик стихов Пауля Целана, где в предисловии упоминалось, в частности, что полной противоположностью произведениям главного немецкого поэта «после Холокоста» являются тексты группы «Наутилус Помпилиус».
Год спустя то же издательство и тот же переводчик предлагают свое прочтение избранных работ Георга Тракля, австрийского экспрессиониста (из которого пресловутый Целан в значительной степени вырос) — того самого, что Ален Бадью в статье «Век поэтов» причислил к шести поэтам, взявшим на себя в XX столетии функцию философов (остальные пятеро — Малларме, Рембо, Пессоа, Мандельштам и, опять же, Целан).
В предисловии на этот раз столь колоритных сопоставлений нет, хотя и встречаются впечатляющие пассажи — например, «настоящий поэт размывает-растапливает свою хладно-рассудочную социальную личину в иррациональной плазме мифа, где наша сущность соединяется наконец в гармониях и дисгармониях гигантской архитектоники с чем-то или кем-то, превышающим все назывные смыслы, внятные нам в нашем бытовом плоскостном, одномерном сомнамбулизме».
Помимо них в предисловии содержится важное программное утверждение, что «русские переводчики Тракля отчего-то все тянут поэта в „духовные сумерки”, то бишь в „сумерки духа” (...) Поэт Тракль редкостно целомудрен и целокупен, и никакая биография, излучаемая „со стороны мрака”, здесь ничего на самом деле не объясняет и не объяснит, разве что произнесет несколько тривиальных сентенций». Иными словами, переводчик вменяет другим версификаторам грех усложнения «отчаянно простодушного речевого потока».
Но так ли это? Удается ли самим переводам Болдырева-Северского воспроизвести монашески-скупую и загадочно мерцающую элементарность траклевского мира, если в своих решениях они зачастую оказываются более консервативны, более прямолинейны и в конечном счете более неуклюжи (а значит, и теряют траклевскую энигматичность)?
За точку сопоставления можно взять опыт другого переводчика — Владимира Летучего, чей монопервод собрания сочинений австрийского фармаколога вышел в 2000-м в издательстве «Фазис». Летучий: «О, истлевший человек; остов/из холодных металлов,/ночь и ужас подводных лесов,/испепелённая ярость зверя;/безветрие души — тень». Болдырев-Северский: «О проект человека прогнивший:/ формовка холодных металлов./ Ночь-ужас лесов затонувших,/ пылающей чащи звериной;/ ни дуновения в душах».
Если ставкой в борьбе за адекватность перевода была передача парадоксальной траклевской простоты, пограничной с непроницаемостью тайны, то победа Болдырева-Северского, скажем так, не всегда очевидна. Хотя и отрицать наличие отменных переводческих удач в этом, безусловно, важном сборнике, было бы по меньшей мере самонадеянно.
«Снова уходит за Холм наше желтое солнце
Прекрасны лес, зверь туманный,
человек — охотник или быть может пастух
В зеленом пруду розовато мерцает рыба
Под небом округлым
рыбак в голубеющей лодке неслышно скользит.
Неспешно здесь зреют и лозы, и жито.
Но клонится день в тишине,
и являются добро и зло.
Когда же ночь наступает,
осторожно Странник свои поднимает тяжелые веки;
солнце из черной бездны хлещет в упор».
Владимир Алейников. Чистое время. М.: Издательство «БСГ», 2020
 Поэт, прозаик и мемуарист Владимир Алейников известен как тот, кто вместе Леонидом Губановым основал в 1965 году московское литературное содружество молодых поэтов-нонконформистов «СМОГ»; из его участников больше всех известен, пожалуй, Саша Соколов. Аббревиатура расшифровывалась творчески и ситуативно — в диапазоне от «Самое Молодое Общество Гениев» до «Смелость, Мысль, Образ, Глубина».
Поэт, прозаик и мемуарист Владимир Алейников известен как тот, кто вместе Леонидом Губановым основал в 1965 году московское литературное содружество молодых поэтов-нонконформистов «СМОГ»; из его участников больше всех известен, пожалуй, Саша Соколов. Аббревиатура расшифровывалась творчески и ситуативно — в диапазоне от «Самое Молодое Общество Гениев» до «Смелость, Мысль, Образ, Глубина».
«СМОГ» и его участники — одни из главных героев книги «Чистое время», где в причудливых пропорциях перемешаны мемуары, эссеистика и свободная авторская рефлексия. Алейников, мастерски эманируя кухонно-подпольную атмосферу 1960-х, воспроизводит бесконечные встречи и застолья с Генрихом Сапгиром, Натальей Солженицыной, Анатолием Зверевым, Михаилом Шемякиным, Андреем Битовым, тем же Губановым и сонмом прочих писателей и художников своего времени.
От тематически близкого романа-поэмы «Смог», вышедшей в издательстве ОГИ 12 лет назад, «Чистое время» отличает отказ от художественного преломления богемной жизни в пользу более-менее документального повествования, по-алейниковски многословного, самоироничного, щедрого на инверсии и эмоции, если не сказать на слезливости. Хотя, конечно, и без поэтических отступлений дело не обходится тоже. Кажется, про такие книги говорят «колоритное свидетельство эпохи».
«Закат — ну что тут сказать и зачем говорить? — был прекрасен.
Япония? Греция? Или Испания? Нет, Коктебель.
Видение. Сон иль явь? Приволье. Пространство. Свобода.
Но странный какой-то звук услышал я вдруг я вдруг близи.
И даже не звук, но — явный, неустанный, тревожный гул.
Гудение, переходящее, постепенно, чуть ли не в рев.
Присмотрелся — и ужаснулся: невероятная, темная, страшная, преогромная, ноющая, зудящая, звенящая и гудящая туча — ох, тучища цела! — многотучие комаров, за которым шло многотучие комаров остальных, идущих на сближение с этим полчищем, оснащенным острыми жалами, человеческой жаждущим крови, надвигалось, к цели стремясь, им известной, чуя добычу, торжество предвкушая победы несомненной над человеком и роскошный пир на природе, на вершине горы, на закате, распрекрасном, нет в том сомнений, не во сне, наяву, на приволье, на свободе, в пространстве и времени, драгоценном, летнем, чудесном, где звучать бы лирическим песням, в Коктебеле моем, — на меня.
И это — их тьмы и тьмы! — комариное жуткое скопище, хищное и прожорливое донельзя — настигло меня.
И десятки, а может, и сотни, или тысячи жал комариных — впились в мое тело, с разгону, с налёту, с наскоку, — все разом.
Что было делать мне?
Только спасаться. Бегством.
Боже, как же я побежал!»