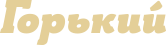Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вальтер Беньямин. Сны и рассказы. М.: Носорог, 2025. Перевод с немецкого А. Глазовой. Содержание
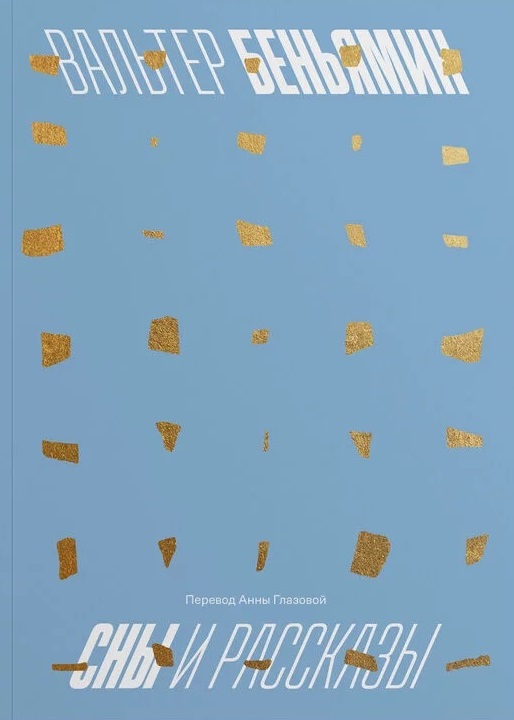 «Сны и рассказы» относятся к тому же виду письма Вальтера Беньямина, что и «Улица с односторонним движением» и «Берлинское детство на рубеже веков»: высоко фрагментированная проза в духе немецкоязычного модернизма, личная настолько, что кажется обскурной, непроницаемой. Непроницаемость эта, впрочем, способна оказывать на читателя более просветляющее действие, чем спутанность теоретических работ критика и философа.
«Сны и рассказы» относятся к тому же виду письма Вальтера Беньямина, что и «Улица с односторонним движением» и «Берлинское детство на рубеже веков»: высоко фрагментированная проза в духе немецкоязычного модернизма, личная настолько, что кажется обскурной, непроницаемой. Непроницаемость эта, впрочем, способна оказывать на читателя более просветляющее действие, чем спутанность теоретических работ критика и философа.
Крохотный сборник в соответствии с названием состоит буквально из переработанных записей сновидений и рассказов разных лет. Одно переходит в другое практически бесшовно, словно бы подчеркивая единство авторского взгляда. Согласно переводчице Анне Глазовой, это единство связано с тем, что Беньямин, не отказываясь от материалистического понимания мира, избирательно чуток к предметам и ощущениям, которые пробуждают желание.
Желание, которое — вполне психоаналитически — предлагает читателю проследовать туда, где эротическое сливается со смертельным, подобно тому, как нежно влекущий силуэт растворяется в черноте ночного леса.
«Во сне я видел „дом, пользующийся дурной репутацией“. „Гостиница, где избаловали зверя. Почти все пьют одну лишь воду избалованного зверя“. Мне приснились ровно эти слова, и я снова вскочил с постели. От сильной усталости я, не раздеваясь, упал на постель при свете ламп и уснул всего на несколько секунд».
Кэнтэцу Такамори. Буддизм Чистой Земли. Разгадка «Таннисё». СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского Илоны Якименко. Содержание
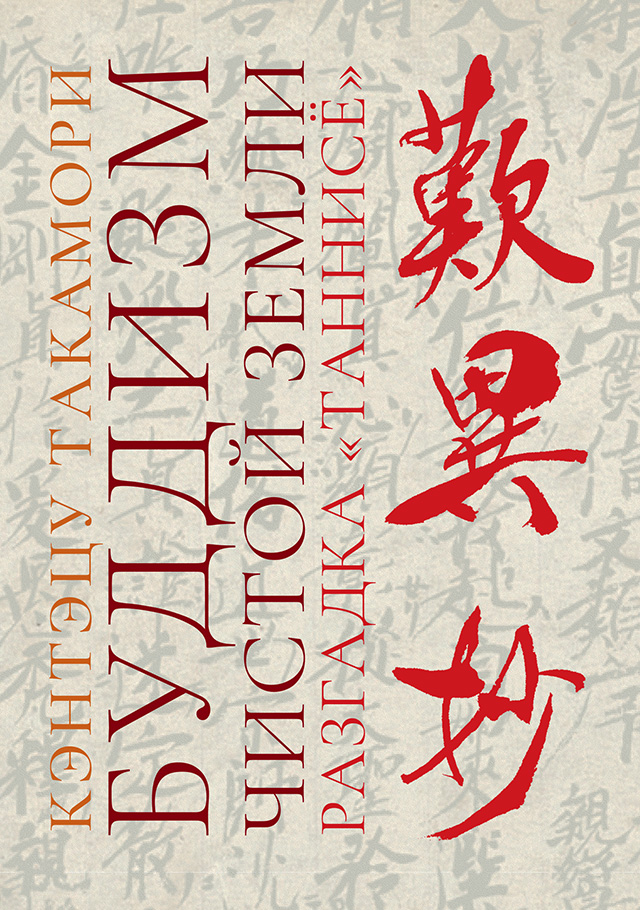 «Таннисё» («Записи скорбящего об искажениях») — важнейший текст японского буддизма, созданный в XIII веке монахом Юйэном и посвященный учению Синрана — основателя школы Дзёдо-синсю. В Японии многие знают эту крохотную книжицу буквально наизусть — она стала во многом основополагающим текстом для страны в послевоенный период, когда морок милитаризма развеялся и стали видны во всем своем безобразии выжженные руины городов и полубезумного общества, еще недавно собиравшегося самоликвидироваться во имя императора.
«Таннисё» («Записи скорбящего об искажениях») — важнейший текст японского буддизма, созданный в XIII веке монахом Юйэном и посвященный учению Синрана — основателя школы Дзёдо-синсю. В Японии многие знают эту крохотную книжицу буквально наизусть — она стала во многом основополагающим текстом для страны в послевоенный период, когда морок милитаризма развеялся и стали видны во всем своем безобразии выжженные руины городов и полубезумного общества, еще недавно собиравшегося самоликвидироваться во имя императора.
Текст этой книги многие столетия был недоступен рядовым гражданам — монахи прятали его подальше от посторонних глаз, опасаясь, что без обстоятельных комментариев афоризмы Юйэна будут истолкованы самым неверным образом. В последние месяцы войны камикадзе носили с собой экземпляры «Таннисё», пытаясь найти в этой книге последнее утешение.
Одним из них был юный Кэнтэцу Такамори — ныне уважаемый учитель Дзёдо-синсю, председатель организации «Дзёдо-синсю Синранкай». До него очередь на полет в сторону крейсеров коалиции не дошла — война закончилась, и мирную жизнь он решил посвятить изучению и популяризации школы Чистой Земли.
Для него «Таннисё» — книга, которая делает буддизм не «пессимистическим учением для угнетенного крестьянства», как заметил бы иной большевик, а, напротив, наукой о достижении счастья на земле, доступного всем и каждому, покуда он жив. Но вслед за средневековыми монахами он признает, что «попытки изучить эту книгу самостоятельно поистине опасны». Так что на этом и прекратим даже не начавшийся рассказ о сочинении Юйэна, предложив интересующимся обратиться к комментариям Такамори.
«Идея о том, что чтение сутр способствует спасению усопших, изначально не принадлежала буддизму. Учение, которое Шакьямуни всю свою жизнь нес людям, предназначалось живым. Его слова меняли сознание тех, кто страдает здесь и сейчас. Говорят, Будда никогда не проводил похоронных обрядов и заупокойных служб. Напротив, он избегал формализма и проповедовал учение об освобождении от невежества — просветлении. Именно в этом заключается цель буддизма».
Роман Тягунов. Мы переводим с русского на русский: стихи, публицистика и другие произведения. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2025. Содержание
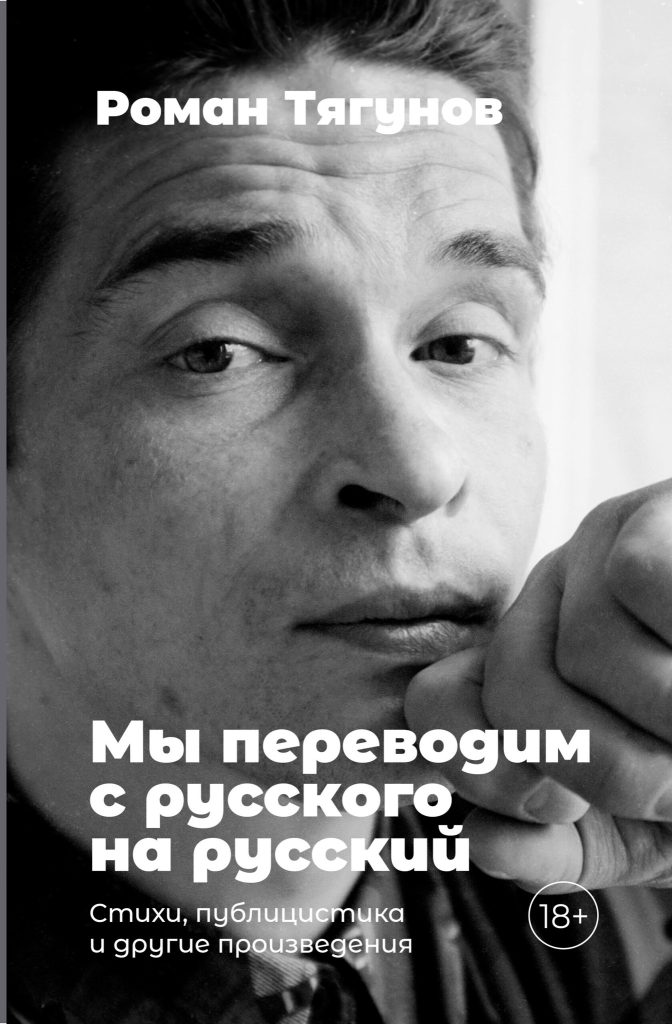 За пределами Урала не особо знают Романа Тягунова (1962–2000), а если и знают, то скорее как «друга Бориса Рыжего». На самом же Урале очень хорошо знают Романа Тягунова, причем независимо от того, с кем дружил и не дружил этот поэт, к которому очень даже подходит до дыр затертое слово «самобытный».
За пределами Урала не особо знают Романа Тягунова (1962–2000), а если и знают, то скорее как «друга Бориса Рыжего». На самом же Урале очень хорошо знают Романа Тягунова, причем независимо от того, с кем дружил и не дружил этот поэт, к которому очень даже подходит до дыр затертое слово «самобытный».
Тягунов и правда поэт самобытный в хорошем смысле слова. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочитать принесшую ему полномасштабную известность поэму «Письмо генсеку» (1987). Это произведение состоит из 28 фрагментов, различных по объему, форме и содержанию, и приурочено оно к XVIII съезду КПСС. Может показаться, что эта вещь из области концептуализма, а то и постмодернистской иронии, но, если так покажется, стоит перекреститься.
Вещь эта, несмотря на интеллектуальную изощренность и известную игривость, весьма-таки глубокая, как особенно заметно спустя десятилетия после ее написания. «Искусство отстает от Горбачева», — совершенно справедливо замечает в ней среди прочего Тягунов, чтобы тут же уточнить: «В умении базарить отвлеченно».
Из подобных важных наблюдений, переходящих в непредсказумые парадоксы и состоит поэтика Тягунова, которого если с кем и можно сравнивать, то, конечно, не с Рыжим, а разве что с метареалистом Александром Еременко.
В эту книгу вошло наиболее полное на сегодняшний день собрание сочинений Тягунова — от конвенциональных стихов до рекламных слоганов и визуальной поэзии. Поскольку погиб поэт рано и при до сих пор толком не расследованных обстоятельствах, вряд ли к этому корпусу текстов что-то прибавится в обозримом будущем.
Чем нам запомнился Вьетнам?
Напалмом, кедами, бамбуком
Но восхищались им, как будто
Не мы, а он дал силу нам
Александр Ткачев. Толстой и античность: «Как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь». От Библии и Гомера до Евсевия Кессарийского и Юлиана Отступника. М.: Прогресс-Традиция, 2024. Содержание
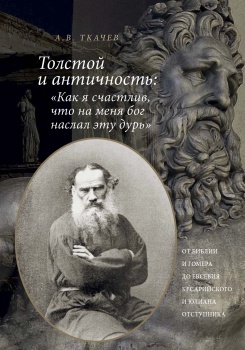 Книгу на тему «Толстой и...» можно написать двумя способами: 1) для галочки (так, кажется, частенько и бывает), 2) от души, и перед нами, к счастью, второй случай, хотя поначалу угрожающий объем издания и его полуэнциклопедический формат особого веселья читателю не сулят. Однако интерес автора к предмету исследования неподдельный, манера изложения живая (хотя биографические справки по персоналиям, следы которых отыскиваются в толстовском творчестве, неизбежно суховаты, но тут уж ничего не поделаешь), а материал богатый и разнообразный, так что в итоге получилось вполне занимательное чтение. Удачно выбрана цитата, использованная в названии книги, — она взята из письма Толстого к Афанасию Фету (январь 1871 года), в котором писатель делится с поэтом восторгами по поводу изучения древнегреческого языка и литературы. Есть смысл процитировать оттуда чуть больше:
Книгу на тему «Толстой и...» можно написать двумя способами: 1) для галочки (так, кажется, частенько и бывает), 2) от души, и перед нами, к счастью, второй случай, хотя поначалу угрожающий объем издания и его полуэнциклопедический формат особого веселья читателю не сулят. Однако интерес автора к предмету исследования неподдельный, манера изложения живая (хотя биографические справки по персоналиям, следы которых отыскиваются в толстовском творчестве, неизбежно суховаты, но тут уж ничего не поделаешь), а материал богатый и разнообразный, так что в итоге получилось вполне занимательное чтение. Удачно выбрана цитата, использованная в названии книги, — она взята из письма Толстого к Афанасию Фету (январь 1871 года), в котором писатель делится с поэтом восторгами по поводу изучения древнегреческого языка и литературы. Есть смысл процитировать оттуда чуть больше:
«Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert [без словаря (фр.)] читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения.
Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые хоть и знают, не понимают). <...>
Ради бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. <...> Все эти Фосы и Жуковские поют каким-то медово-паточным, горловым подлым и подлизывающимся голосом, а тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его будет слушать».
Даже этот крошечный фрагмент весьма показателен: представьте себе какого-нибудь другого писателя, особенно современного, который в 43 года выучит древнегреческий так, чтобы читать без словаря «Анабасис» Ксенофонта, назовет свой ученый досуг дурью и отчитает за «подлый голос» Жуковского, перевод «Одиссеи» которого общепризнанно неидеален, и тем не менее не найден на помойке.
Крайний субъективизм в целом характерен для отношения Толстого к Античности, он не считает всю целиком за незыблемый идеал, но выборочно, если это нужно для его толстовского дела, раздает сестрам по серьгам. Скажем, если Льву Николаевичу не нравились государство и организованная религия, то и поклонником Октавиана Августа и Августина Блаженного он не числился, зато увлекался углубленным самоанализом, и отсюда его увлечение Марком Аврелием и вообще стоицизмом. Одним словом, рекомендуем.
«Гефест Яснополянский
Всякое сравнение хромает, а уж сравнение с хромым от рождения Гефестом хромает по определению. Но лучшего я не нашел, к тому же Гефест, в отличие от Зевса, с которым Толстого сравнивали при жизни, самому Толстому был куда симпатичней — бог-труженик, бог-мастер, бог-художник. Оба были чрезвычайно сильны физически. Оба, и Толстой, и Гефест, страдали от непривлекательности своей наружности и страшно ревновали своих жен. Критик Ю. И. Айхенвальд писал о стиле Толстого: „У него, к счастью, нет чувства слова как слова; орудие, которым он выковывает свою мысль и свои образы, отличается гениальной грубостью“. Выковывает! Чем не Гефест?»
Элисон Уэйр. Ланкастеры и Йорки. Война Алой и Белой розы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. Перевод с английского В. Ахтырской. Содержание
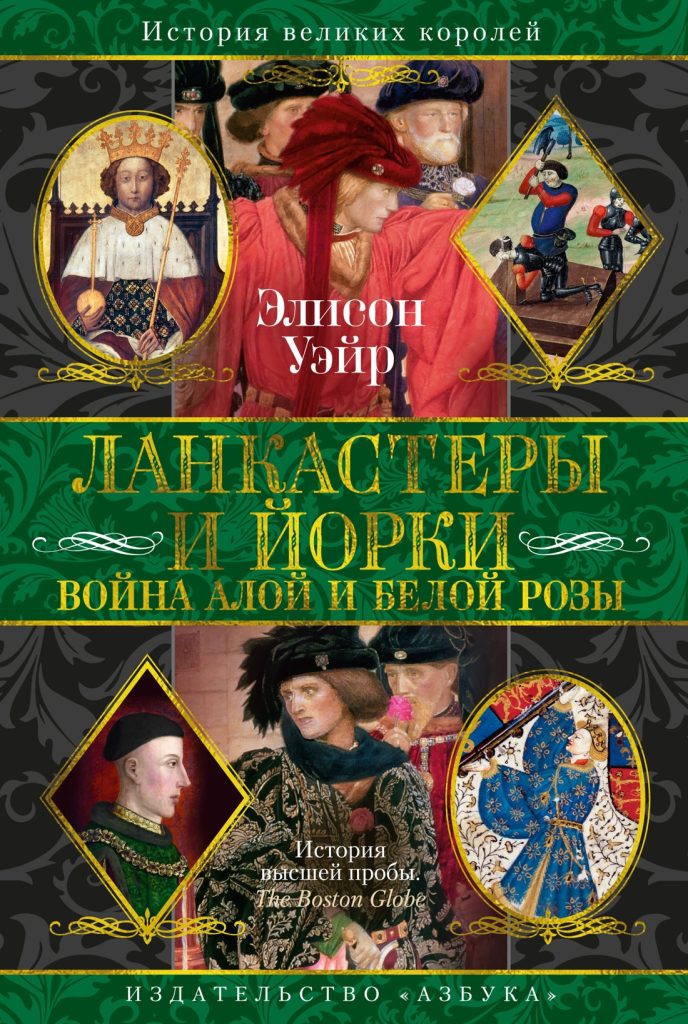 Элисон Уйэр работает в жанре научно-популярных исторических повествований, а еще сочиняет исторические романы с аффектированной любовной линией. «Ланкастеры и Йорки» относятся к первой категории, т. е. не Валентин Пикуль, и даже не Морис Дрюон: художественность в этой книге рудиментарна, а плотность исторических деталей повышена.
Элисон Уйэр работает в жанре научно-популярных исторических повествований, а еще сочиняет исторические романы с аффектированной любовной линией. «Ланкастеры и Йорки» относятся к первой категории, т. е. не Валентин Пикуль, и даже не Морис Дрюон: художественность в этой книге рудиментарна, а плотность исторических деталей повышена.
Фокусируясь на едва ли не самом знаменитом в истории Британии аристократическом противостоянии, по итогам которого на английский престол взошел род Тюдоров, Уйэр выходит на очень конкурентный рынок, даром что в оригинале книга вышла в 1995 году. Главная авторская ставка — на внимание к «человеческой стороне истории». Писательница стремится показать личные переживания, мотивы и взаимоотношения людей, вовлеченных в кровопролитный конфликт. Особое внимание уделяется ключевым фигурам, в частности Генриху VI, чья нестабильная психика оказала значительное влияние на ход событий.
В принципе, с точки зрения исторической науки такой подход, во многом основанный на «роли личности» и ее моральном облике, мало озабоченный социально-культурными обстоятельствами, устарел еще в начале XX века, но нельзя не отдать должное умению Уйэр увлекательно излагать события многовековой давности и подавать сложнейший материал с обманчивой ясностью.
«Как и сегодня, язык был представлен в форме местных диалектов, однако в XV столетии они отличались друг от друга настолько, что даже жители Кента и лондонцы с трудом понимали друг друга. Общество было обособленным и замкнутым, характеризовалось специфическими локальными чертами, а тогдашние англичане именовали своей „страной“ управляемое местным феодалом или королевским шерифом графство, в котором жили; англичан, проживавших за пределами этих графств, они считали иностранцами».