Голос другого и бла-бла-бла: три поэтические новинки
Лев Оборин — о главных поэтических книгах ноября
Александр Скидан. Контаминации. СПб.: Порядок слов, 2020
Слово «контаминация» означает совмещение двух значений; это заглавие можно счесть ключом к книге, к ее сюжету, внятному вовсе не сразу. «вбегает мертвый господин / он так один», — начинает Александр Скидан. Разобравшись с модернистами в лице Введенского и Рильке, он подступается к Золотому веку русской поэзии:
я квиру постелил с народом своему
все сделал по уму
поэзии ребяческие сны
вернутся к нам не ссы
и там где тот народ недавно был
теперь провал сильнее наших и ваших
и на обмылках имена
в плейлист заносят племена
и этого скажем так бессмертия довольно
и курица довольна
Дальше — больше: в первом разделе «Контаминаций», под названием «Как наименьшее зло», из рифмованных стихов летит шелуха цитат и имен — Рембо, Вальехо, Пастернак, Вс. Некрасов, Геннадий Гор, Цветаева («мне них... не нравится что ты больна не мной»). Возникает ощущение единого порыва, в котором пишущий хочет расквитаться с фантомами Поэзии и Литературы («поэт ты тряпка половая / а думаешь что рана ножевая»; «сообщество е... все / а уж как я его е...»). В союзники здесь взяты нарочитая простота, стертые и тавтологические рифмы. Излишне говорить о разрыве с предыдущей поэтикой Скидана — запечатленной, например, в книге избранного «Membra disjecta». Но что-то не дает увидеть в этих стихах и проектность — ни фабрично-деконструкторскую, свойственную сборникам Д. А. Пригова, ни неряшливо-шутовскую, как у лейтенанта Пидоренко. Грубо говоря: мы знаем, что эти стихи пишет человек, который раньше писал совсем иначе, автор сложной, интеллектуальной лирики; что произошло? Откуда эта тошнота от цитат, ощутимая под щегольской центонностью? Схожая трансформация, кажется, случилась с Данилой Давыдовым на этапе сборника «Марш людоедов»: там вмешивание высоких контекстов в простой, раешный, грубый стих служило знаком фрустрации, недовольства бессилием этой самой высокой культурой. У Скидана усталое пренебрежение — интонация и для классических текстов, и для современных «правильных слов» («гендерное насилие неравенство травма / голос другого и бла-бла-бла»). Филологические термины («теснота стихового ряда») и лирические штампы («бездна») приводят именно туда, куда обещают, но стоило ли туда приходить?
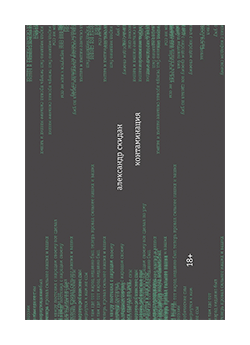 в стихового ряда тесноту
в стихового ряда тесноту
да не ту
входишь не спросясь
ась
и выходишь бездны на краю
мать твою
бездна ты качаешься
и что-то не кончаешься
Объяснением фрустрации, резкой перемены манеры, кажется, служит второй раздел, «на мосту мирабо», название которого вновь отсылает к модернистским иконам — Аполлинеру и Целану. Их тексты и контексты заражают (контаминируют — см. английское значение contamination), их биография вплетается в разговор об их стихах. Но в ситуации личной травмы, кризиса («у меня депрессия / мой гаджет любит тебя / во сне»; «и внезапно меня настигает смысл беспамятства») — эти тексты оказываются бесполезными. Знакомые, иконические стихи перестают работать, закрываются. Словно напоследок срабатывает всегда таившаяся в них пружина и отталкивает от них понимание.
На мосту Мирабо мы не читали Целана,
мы даже не открыли вино, припасенное по этому случаю, —
мы почувствовали себя Unheimlich,
точно под прицелом,
и спустились на набережную, «в укрытие»... <...>
мы открыли горло вину,
но вода — вода его
не приняла.
Только что на «Грёзе» вышла большая антология разговоров, реплик о Пауле Целане — и там Скидан рассказывает о реальной подоплеке этого документального стихотворения: «Но когда мы пересекли автостраду и вышли на мост, что-то произошло. Стало нечем дышать, как будто включили вакуумный насос».
В этой ситуации остается признавать твою нерелевантность воздуху прошлого. Или, наоборот, его несостоятельность для тебя-лично. Или злиться на него; хотя бы наугад — подвергать разрушительному, изничтожающему аффекту. Сочетание этих признаний и реакций и дает контаминацию. Ну а подлинные причины перемены остаются за пределами критического анализа — и прямого изложения «битым словом». Дело поэта — честно зафиксировать происходящее.
Света Литвак. Агынстр. М.: Вест-Консалтинг, 2020
 В первой за долгое время книге Светы Литвак собраны вещи, сделанные за много лет — самый ранний текст в «Агынстре» датируется 1994 годом. Книга вполне отображает многообразие поэтических практик Светы Литвак — от условно «конвенциональных» стихов до зауми, от комбинаторики до визуальной поэзии. Впрочем, хотя обычно ее причисляют к неоавангардистам, даже заумь у Литвак тяготеет к семантизации — как пишет в предисловии к «Агынстру» глава Международной академии зауми Сергей Бирюков, «дешифровка тонко вмонтирована в шифровку». Центральные «темные» места нередко дешифруются благодаря смысловому ореолу их окружения — так, например, эротический контекст соседних строк помогает понять, чего же хочет министр из «заглавного» стихотворения:
В первой за долгое время книге Светы Литвак собраны вещи, сделанные за много лет — самый ранний текст в «Агынстре» датируется 1994 годом. Книга вполне отображает многообразие поэтических практик Светы Литвак — от условно «конвенциональных» стихов до зауми, от комбинаторики до визуальной поэзии. Впрочем, хотя обычно ее причисляют к неоавангардистам, даже заумь у Литвак тяготеет к семантизации — как пишет в предисловии к «Агынстру» глава Международной академии зауми Сергей Бирюков, «дешифровка тонко вмонтирована в шифровку». Центральные «темные» места нередко дешифруются благодаря смысловому ореолу их окружения — так, например, эротический контекст соседних строк помогает понять, чего же хочет министр из «заглавного» стихотворения:
за ветровым стеклом чистит мундир министр
просит наград наград хочет агынстр агынстр
Все это будто бы противоречит установке одного из первых стихотворений книги: «надо не записывать — отдаться на теченье празднестных словес». Но есть привычки, от которых, даже плывя по этому теченью, трудно избавиться: привычка ко вниманию, вслушиванию, комбинированию смыслов. Литвак доступны множественные техники из исторического арсенала авангарда, иногда полярные по сути. Это может быть семантизация, овеществления звука в духе знаменитого сонета Рембо («а героической буквы протисни / выясни е легендарной личину»). Это может быть якобы бесхитростное предоставление ключа к тексту: на одной странице со стихотворением «сравнила я природу и стихи...» публикуется краткий и исчерпывающий комментарий мужа Литвак, поэта Николая Байтова, поясняющий, как это стихотворение «пытается понять и показать, почему поэзия стремилась — и пришла — к конкретизму». Это может быть псевдо-северянинство: «дополнит ли крымчатую камчатку серолижавый пиджак рубашке <...> / поэта предвкушённый настиг успех / в Зверевском решпектабельном сквере». Полужирное выделение здесь указывает, куда ставить ударение — таким образом, эстетская поза «повсесердной утвержденности» здесь пародируется не только с помощью упоминания «Зверевского сквера», известного места поэтических тусовок и возлияний, но и благодаря фонетическому остранению (другой, не менее эффектный пример такого переноса ударения — книга Алексея Верницкого «Додержавинец»).
И, разумеется, это в первую очередь отношение к слову и букве как к строительному материалу, вполне явственное в фигурных стихах-пирамидах, одновременно монументальных и минималистских. Собственно, еще один аспект разнополюсности у Литвак — умение работать и с крупной формой и со сверхмалой. Некоторые тексты здесь — листки из «звучарной» записной книжки, раскладывающие ситуацию на звуковые компоненты и тут же собирающие обратно:
стук колёс паровос
ось ос
пара воз зов ввёз
взь взь обрдвг дзынь
В другом примере вариации ни к чему вроде бы не обязывающего палиндрома дают зримую картину нападения (почему-то кажется, что заслуженного):
А кудри бакалавру рвала Кабирдука
А брови бакалавру рвала Кабиворба
А чёлку бакалавру рвала Кабуклёча
В целом эта книга — манифест, но парадоксально негромкий, непривычно нервный. Литвак как бы берет авангардистский метод за руку и проводит его по нехарактерным для него эмоциональным территориям — в том числе отвращения, фрустрации, усталости, дежавю. Она подводит его к аналитике эроса (здесь, кстати, хочется упомянуть ее замечательную эротическую прозу, написанную под гетеронимом Левита Вакст) и заставляет вновь повторить пройденный материал. В частности, создает из букв и слов пирамиды и бусы. Что, если бы у Крученых был 3D-принтер?
Розмари Уолдроп. снова найти точное место. Екатеринбург: Полифем, 2020. Перевод с английского Галины Ермошиной под ред. Александра Уланова
 Это первое русское издание текстов американской поэтессы немецкого происхождения, представительницы старшего поколения, близкой к языковой школе. В большом предисловии Александр Уланов объясняет, что Уолдроп называет свой метод «gap gardening», «возделывание разрыва» — ее как поэта и как лингвиста интересует несовпадение семантики и синтаксиса, смыслы, селящиеся в прогалах и кавернах. Насколько плодотворным может быть такое возделывание, показывает хотя бы объем тома. Впрочем, можно назвать ее работу и латанием: строки prose poetry, которой в этой книге большинство, похожи на стежки, прошивающие широкий разрыв: слева направо, слева направо. «Кожа простирается ниже подсознания. Песня собирает. В их сбившемся полете. Строчки, несущие вес отсутствия».
Это первое русское издание текстов американской поэтессы немецкого происхождения, представительницы старшего поколения, близкой к языковой школе. В большом предисловии Александр Уланов объясняет, что Уолдроп называет свой метод «gap gardening», «возделывание разрыва» — ее как поэта и как лингвиста интересует несовпадение семантики и синтаксиса, смыслы, селящиеся в прогалах и кавернах. Насколько плодотворным может быть такое возделывание, показывает хотя бы объем тома. Впрочем, можно назвать ее работу и латанием: строки prose poetry, которой в этой книге большинство, похожи на стежки, прошивающие широкий разрыв: слева направо, слева направо. «Кожа простирается ниже подсознания. Песня собирает. В их сбившемся полете. Строчки, несущие вес отсутствия».
Фразы, посылки у Розмари Уолдроп присоединяют к себе новые фразы и посылки — с обоих концов. Такая поливалентность вроде бы говорит о том, что поэтесса стремится сделать мир цельным, любуясь отдельными его частями и их сочетаемостью. Но в том, что отдельные части вообще есть, заложена и драма: как ни стремись к объединению, язык дискретен, он состоит из слов, букв, фонем. Уолдроп — одна из тех поэтов, для которых сам этот факт составляет серьезную, краеугольную проблему: «Все дороги ведут, но как предложение это делает?» Сочетание текучести с дискретностью и образует ее поэтическое дыхание. Сравним два отрывка:
Меня считали отзывчивой, но мне все еще были интересны другие жизни, которые я могла бы прожить, неиспользованные черты персонажей, хранящихся во мне, изгои действительности не более чужие, чем мои предыдущие сущности.
И:
Мой друг. Постарайся не умереть. Не быть разорванным в клочья. Не позволяй этого, потому что мы ободраны. Боги хлещут волнами нашу плоть. И ее мышцы, и нервы, и сосуды, и жир. И с этим заклинанием идут дальше. Если это действительно жизнь это. Сон лучше бы. Хороший. Что идет к сердцу. Все же мир — весь воздух. Мне удалось услышать, как ученые обсуждают слово «дым» и не. Задыхаются. Поскольку воображения принимают форму. Как бы в этом мире.
Обратим внимание на вынужденность некоторых остановок: она создает проблемы в переводе. «Здесь я работаю над. Своего рода элегией»: по-русски это звучит необходимостью перевести дыхание, по-английски можно понять и как заголовок и жанровое определение («Here I work toward. A kind of elegy»). Вообще по-английски программа Уолдроп заведомо выглядит более внятной, чем по-русски: к примеру, по-английски одно и то же слово может быть существительным, глаголом и прилагательным, не мешают падежи, игра слов не отменяет точности. «Butterflies however fluster me. As they flutter» — ср.: «Бабочки, однако, возбуждают меня. Когда они вибрируют» (пример удачного сохранения игры слов — название сборника «Lawn of Excluded Middle»: «Газон исключенного третьего»). Зато в переводе Галины Ермошиной сохраняются многочисленные аллюзии: к примеру, в поэме «Второй язык», открывающей книгу, это отсылки к библейскому мифу о грехопадении.
В составе книги есть и сборник, где Уолдроп переходит от аллюзивности к прямой рефлексии над феноменами культуры и биографиями ее деятелей: «Как было». «Леонардо как анатом, неоднократно», «Малларме как филолог, умирающий»... Пограничность формы влечет за собой пограничность жанра: некоторые поздние тексты Уолдроп — почти что автобиографические эссе: «На вечеринке я разлетаюсь по стольким „я“, что не могу придумать достаточно псевдонимов. // Мне нравилась Розмари, которой я была с Кейтом Уолдропом. Поэтому я стала Розмари Уолдроп и теперь придерживаюсь одного имени. // Это, как я надеялось, поможет мне обрести себя, руки, ноги, волосы и остальное. Так что я могла бы закрыть глаза от удовольствия, что у меня есть идентичность».
Темы поэзии Уолдроп — растерянность, поиск точки отсчета («снова найти точное место»). Телесность — изредка шокирующая («Я читала, что женщины, приговоренные к повешению, должны надевать прорезиненные штаны и платье, зашитое вокруг коленей, потому что матка и яичники вываливаются от шока при падении в люк»), а чаще — как бы зримо отсутствующая («...соотношение эмоционального и телесного тепла остается нарушенным, даже если мы наденем сапоги и тяжелое пальто», в оригинале пальто тоже во множественном числе). Взаимоотношения субъекта и объекта, странным и дискомфортным образом выламывающиеся из языковых схем. Все эти темы в русской поэзии так или иначе присутствуют — но здесь производит сильное впечатление именно методичность работы Уолдроп. Кстати, поэтому удачно, что корпус ее текстов на русском — работа одной переводчицы, вжившейся в ритмы оригиналов, в способ мышления поэтессы. Это ощущение методичности и единства еще сильнее благодаря композиции сборника, в котором тексты/книги/циклы идут, за исключением первой поэмы, от более поздних к более ранним. Если читать их в обратном порядке, становится ясно: чем дальше, тем больше Уолдроп доверяет фрагментам, которые обеспечивают сцепку мыслей почти что в порядке игры, предоставляют площадку для все новой и новой смены ракурса. Еще одна метафора для ее поздних текстов — игра в классики. Только очень серьезная.