Гофман умер от сифилиса: краткое введение в демоническое литературоведение
О книге Евгения Жаринова «Роковой романтизм. Эпоха демонов»
Евгений Жаринов. Роковой романтизм. Эпоха демонов. М.: АСТ, 2020. Содержание
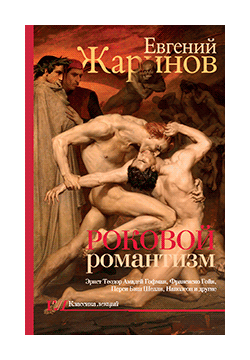 Из новой книги известного литературоведа Евгения Жаринова читатель может узнать, что Эрнст Теодор Амадей Гофман умер от сифилиса, в протестантизме невозможно искупление грехов, Жорж Санд родилась прямо на сцене, а главным немецким романтиком был Гитлер. Все это, к счастью, неправда.
Из новой книги известного литературоведа Евгения Жаринова читатель может узнать, что Эрнст Теодор Амадей Гофман умер от сифилиса, в протестантизме невозможно искупление грехов, Жорж Санд родилась прямо на сцене, а главным немецким романтиком был Гитлер. Все это, к счастью, неправда.
Ловить Жаринова на неточностях очень легко. Достоевский не сам решил исключить «Исповедь Ставрогина» из «Бесов», это вопреки воле писателя сделал редактор Михаил Катков; Николя Аппер не изобрел консервирование продуктов, «взяв за основу теорию двух ученых — ирландца Нидгэма и итальянца Спалланцани», поскольку Нидгэм и Спалланцани отстаивали прямо противоположные взгляды; и так далее. Не будем лишать читателя удовольствия самостоятельно отыскивать ошибки в тексте «Рокового романтизма», просто предупредим заранее: не надо удивляться, увидев упоминание о великом фильме немецкого импрессионизма «Носферату». Поберегите силы, они вам понадобятся, потому что в книге Жаринова встречаются идеи куда более оригинальные.
И потом, «Роковой романтизм» претендует на изображение широкой панорамы эпохи, от ее науки и политики до философии и искусства, поэтому было бы неверно цепляться к частностям. Лучше сразу перейти к тому, ради чего и была написана книга, — к общей концепции романтизма. По мнению Жаринова, романтизм был «эпохой демонов», а основными его чертами — «всякого рода мистика» и «увлечение спиритизмом». Что еще важнее, романтизм — это бунт против устоявшегося порядка мироздания и, следовательно, Бога и разума:
«Если сначала Классицизм, а затем Просвещение говорили о разуме и о рациональном начале, если для просветителей-масонов главным была концепция Бога как великого и разумного архитектора, потому что Бог и есть Свет, то романтики, наоборот, обратились ко Тьме, они утверждали, что мир неразумен, что в нем больше хаоса, чем порядка, и, по мнению Ю. М. Лотмана, считали себя адвокатами Демона, поднявшего против Бога восстание».
Таким образом, к числу главных характеристик романтизма можно добавить индивидуализм (в котором виноват Кант), моральный релятивизм (в котором виноват Гегель) и иррационализм с эстетизацией Зла (тут постарались все).
Карты на стол: «Роковой романтизм» — очень плохая книга, вероятно, худшая из когда-либо попадавшихся нам по теме. Она скомпилирована из письменных работ Жаринова и расшифровок его лекций. Иногда стыки проходят внутри одной главы, и тогда в глаза бросается не только стилистическое несходство соседних абзацев, но и повторение одних и тех же пассажей: так, об изобретении консервной банки Питером Дюраном написано трижды. Какое отношение к романтизму имеют консервы, спросит читатель? Мы не знаем — зато благодаря Евгению Викторовичу теперь никогда не забудем, что во время Великой Отечественной СССР выпустил 432,5 миллиона банок консервов и еще два миллиарда импортировал из США. Но и повторы, и плохую редактуру, и даже разного рода ляпы можно было бы простить, если бы ключевые тезисы «Рокового романтизма» имели хоть какое-то отношение к действительности. Читатель уже догадался — увы, это не так.
 Нет, романтизм не сводится к эстетизации Зла, если вообще с ней связан. Нет, романтизму не был присущ иррационализм: вообще довольно странно утверждать нечто подобное и на следующей странице перечислять появившиеся тогда новые научные дисциплины. (Хотелось бы увидеть список романтиков, которых автор считает врагами науки. Может быть, основателей сравнительно-исторического языкознания Фридриха Шлегеля и Якоба Гримма? Или отца современного университета Вильгельма Гумбольдта, не говоря о его брате-естествоиспытателе Александре? Или на протяжении нескольких десятилетий возглавлявшего берлинский ботанический сад Адальберта фон Шамиссо?) Нет, романтики не были ярыми индивидуалистами, наоборот, они часто работали сообща, совместно издавали журналы и даже писали коллективные романы. И нет, разумеется, Гофман умер не от сифилиса — причиной его смерти послужил рак верхних дыхательных путей или боковой амиотрофический склероз.
Нет, романтизм не сводится к эстетизации Зла, если вообще с ней связан. Нет, романтизму не был присущ иррационализм: вообще довольно странно утверждать нечто подобное и на следующей странице перечислять появившиеся тогда новые научные дисциплины. (Хотелось бы увидеть список романтиков, которых автор считает врагами науки. Может быть, основателей сравнительно-исторического языкознания Фридриха Шлегеля и Якоба Гримма? Или отца современного университета Вильгельма Гумбольдта, не говоря о его брате-естествоиспытателе Александре? Или на протяжении нескольких десятилетий возглавлявшего берлинский ботанический сад Адальберта фон Шамиссо?) Нет, романтики не были ярыми индивидуалистами, наоборот, они часто работали сообща, совместно издавали журналы и даже писали коллективные романы. И нет, разумеется, Гофман умер не от сифилиса — причиной его смерти послужил рак верхних дыхательных путей или боковой амиотрофический склероз.
К чести Евгения Викторовича, он не пытается всерьез доказывать свои утверждения — ну или, по крайней мере, то, что у него получается, никак не назовешь доказательствами. Материал излагается не логически, а, скажем так, ассоциативно. Вокруг смыслового ядра книги постепенно скапливается все больше и больше разрозненных фактоидов, которые соединяются друг с другом при помощи слов «Зло», «Тьма», «дьявол». От их многократного повторения у читателя, видимо, и должно выработаться ощущение, что романтизм действительно таков, каким его изображает автор.
Вот как это выглядит в тексте. Рассказывая о науке начала позапрошлого столетия, нельзя, разумеется, обойти вниманием открытие ископаемых останков динозавров. После краткого перечисления самых известных находок Жаринов переходит к вызванным ими изменениям в общественном сознании, а именно к утрате веры в библейскую хронологию. Человек был явно моложе и значительно мельче древних ящеров, что означало утрату им своего центрального положения в системе живых существ. Эти рассуждения Жаринов заканчивает максимально неожиданным образом:
«Символично, что рядом с первым извлеченным из земли динозавром (найденным в 1822 году близ Стоунсфилда в Англии) обнаружили скелетик ископаемого млекопитающего размером с современного упитанного кота, которого этот доисторический великан мог бы без труда упрятать за щекой. Но именно ящеры, или рептилии, в Библии ассоциируются исключительно с дьяволом, бунт которого и воспевала вся эпоха романтизма».
А вот как объясняет профессор МПГУ мрачные сюжеты картин Франсиско Гойи:
«Дело в том, что предки художника принадлежали к доиндоевропейскому народу басков, в чьих преданиях и легендах превалируют темы жестоких убийств, человеческих жертвоприношений и каннибализма. В их мифах грозные духи природы погружают человека в атмосферу первобытного ужаса».
 Франсиско Гойя. Два старика едят суп. 1819–1823
Франсиско Гойя. Два старика едят суп. 1819–1823
© Museo del Prado
Аналогичным образом оказываются связаны извержение вулкана Тамбора в 1815 году, появление в следующем году романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» и трагическая гибель ее мужа, поэта Перси Шелли. А также любовь Шопена к темноте — с тайным желанием вернуться в лоно матери. Но, безусловно, своей высшей точки метод достигает, когда речь заходит о повести Гофмана «Золотой горшок». Горшок из заглавия сразу объявляется автором не каким-нибудь, а ночным, а раз один из героев повести — князь Фосфор, то сама собой напрашивается история выделения фосфора из урины гамбургских солдат в XVII веке. Завершает фрагмент настоящий coup de grace:
«Греки словом phosphoros (дословно „несущий свет”) называли факельщика; так же они могли назвать утреннюю Венеру, которая предвещала восход солнца. „Свет” по-гречески — phos (родительный падеж photos), отсюда слова „фотон”, „фотография” и многие другие; а phoros — „несущий”. Так что слова „светофор” и „фосфор” по сути означают одно и то же. Забавно, что если перевести слово „светофор” на латынь, то получится люцифер (от лат. Lucifer — светоносный). Отсюда и люциферины — органические вещества, участвующие в биолюминесценции, свечении живых организмов. А в биологии используется флуоресцентный краситель под названием „люцифер желтый”. Вот вам и прямое воплощение романтической иронии как „первобытного хаоса”, по Шлегелю. Моча — князь Фосфор — и в конце сам Люцифер. Какая химия!»
«Россия, Лета, Лорелея», кажется, навсегда потеряли звание самой эффектной цепочки ассоциаций в истории русской словесности.
Одной суггестии для создания достоверности, конечно, недостаточно, поэтому автору приходится о многих фактах умалчивать, а какие-то притягивать за уши. Так, про жизнелюбивого и здравомыслящего Людвига Тика Жаринов пишет, что тот временами впадал в жуткое отчаяние и целые ночи проводил на кладбище, но ни разу не упоминает, что Тик — автор самых нежных и светлых комедий в репертуаре немецких театров, и к тому же прожил целых 79 лет, опровергнув миф о непонятом и рано умершем романтике. Правдоподобность заявлений о поголовном атеизме и чуть ли не сатанизме романтиков сильно страдает от того факта, что многие из них (тот же Шлегель, Новалис, Эйхендорф, Шлейермахер) были истово верующими католиками и протестантами, за что, например, их впоследствии критиковал Гейне. Романтиком вдруг становится маркиз де Сад — по причинам вполне очевидным и совсем не идейно-литературным. Глава «Романтики в повседневной жизни» выглядит искусственно составленной из наиболее трагичных жизнеописаний — Клейст, Леопарди, По, Бодлер — с одной только целью, а именно шокировать читателя нагромождением смертей, болезней и несчастных отношений. При этом автора не обвинишь в прямой лжи (в худшем случае — в пересказе старых сплетен), он просто рассказывает только о том, что работает на его концепцию, слишком вызывающе игнорируя все неудобные обстоятельства.
 Евгений Жаринов
Евгений Жаринов
Вот именно этой однобокости и удивляешься по-настоящему, ведь не вызывает никаких сомнений начитанность Евгения Викторовича или его знакомство с работами школы «Анналов» и московско-тартусской семиотикой. Совершенно непонятно, почему при всей своей квалификации Жаринов не способен на элементарную литературоведческую операцию: отделить писателя от созданных им произведений. Если Гофман описывает убийства или явление самого дьявола, то это еще не означает, что сам он автоматически встает на сторону нечистой силы, иначе самыми отъявленными сатанистами пришлось бы считать авторов Ветхого и Нового Заветов. С определенного момента внимание читателя с содержания книги полностью обращается на противоречивые взгляды автора: зачем он так подробно пишет про то, что ему со всей очевидностью ненавистно? Многое проясняется в предпоследней главе книги — о романтизме в России.
Причиной неуспеха западного течения в нашем отечестве, считает Жаринов, стало не что иное, как православие. В основе романтизма якобы лежит протестантское учение о предопределении, которое исключает всякую возможность искупить совершенные злодеяния. Вследствие этого грехи накапливаются и не отпускают душу из бренного мира — отсюда обилие призраков и заколдованных замков в готической литературе. Русская же культура построена на прямо противоположных идеях («мифе о грехе, грешнике и раскаянии»), и нет ничего странного в том, что «„страшная” романтическая повесть в творчестве того же Гоголя, Пушкина и Одоевского вступила в противоречие с православной этикой, в результате чего должна была уступить место христианской мифологии, во многом определившей развитие русского реализма». Тут все становится на свои места: оказывается, «Роковой романтизм» — не научно-популярное, а фантастическое произведение.
Можно было бы и здесь броситься возражать, приводя в пример «Вия», «Героя нашего времени», «Капитанскую дочку» и «Бориса Годунова», но уже незачем. Профессор создал поразительно цельный, построенный по своим законам — просто какой-то другой — мир. В нем протестантские призраки борются с раскаявшимися православными грешниками, кровавые баски заставляют извергаться вулканы, а безносые и чахоточные писатели вместе с князем Фосфором водят хоровод вокруг Золотого горшка.
Пойдем, читатель, нам здесь не место.
Что почитать вместо «Рокового романтизма»
Наум Берковский, «Романтизм в Германии»
Фактически первая и с большим отрывом лучшая советская работа по теме. Берковский вернул романтиков отечественной публике, написав, по выражению Александра Гениса, книгу уникального жанра — «гуманитарную утопию».
Ольга Вайнштейн, «Язык романтической мысли: о философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля»
Редкий случай: монография на узко специальную тему с каждой страницей становится страшно увлекательным разговором о том, как в целом устроены романтическая философия и литература и почему одна невозможна без другой.
Александр Доброхотов, «Телеология культуры»
«Телеология культуры» (вошла в шорт-лист премии Пятигорского 2017 года) формально написана не о романтизме, автора интересуют судьбы европейской культуры Нового времени в целом, но рубеж XVIII–XIX веков неизбежно оказывается в центре его внимания. После прочтения совершенно невозможно всерьез воспринимать школьное противопоставление романтизма и Просвещения: вместо набора антитез видишь куда более сложно организованный и непрерывный континуум.