Гибель Запада — от гаража до писсуара
Самые заметные книжки недели по версии «Горького»
История долгоиграющих мемов — от «англичанка гадит» до «Запад загнивает»; сборник сценарной и драматургической прозы Александра Родионова; таинственная жизнь американских гаражей через объективы Оливии Эрлангер и Луиса Ортеги Говелы; экс-вокалист Talking Heads Дэвид Бирн объясняет, как работает музыка, а колумнист Мэтт Браун дополнил свои книги «Все, что вы знаете о науке, — неправда» и «Все, что вы знаете о Лондоне, — неправда» третьим произведением, и в нем неправдой оказывается все, что вы знаете об искусстве. Как всегда, в пятничном обзоре Ивана Напреенко — самые интересные книжки недели.
Александр Родионов. Сказки про темноту. СПб.: Порядок слов, 2019
 Александр Родионов — сценарист, а местами и соавтор фильмов «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Все умрут, а я останусь», «Сказка про темноту», а также пары пьес для ТЕАТРа.DOC, с которым Родионов плотно связан, включая «Войну молдаван за картонную коробку» и «Песни народов Москвы». В сборник его прозы вошли сценарии для фильмов Бориса Хлебникова и Николая Хомерики, несколько пьес и никем не снятый сценарий «Сон оказался предвестником несчастья», за который Родионов взял в 1997 премию «Зеркало для молодых».
Александр Родионов — сценарист, а местами и соавтор фильмов «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Все умрут, а я останусь», «Сказка про темноту», а также пары пьес для ТЕАТРа.DOC, с которым Родионов плотно связан, включая «Войну молдаван за картонную коробку» и «Песни народов Москвы». В сборник его прозы вошли сценарии для фильмов Бориса Хлебникова и Николая Хомерики, несколько пьес и никем не снятый сценарий «Сон оказался предвестником несчастья», за который Родионов взял в 1997 премию «Зеркало для молодых».
Этот сборник, конечно, имеет весьма опосредованное отношение к коллекциям сценарных опусов, т. е. к тому, что принципиально создается быть основой для творческого продукта иного уровня. Это вполне самоценная литература, хотя Родионов предпочитает говорить, что создает тексты, которые «даже не мир фильма, а транспорт к миру фильма».
О том, насколько уютным оказывается этот транспорт для самих режиссеров, можно судить по тому, как Хлебников и Хомерики перетолковывают герметичные, если не сказать душные, «транспортные средства» Родионова. Они всяческий раз их размягчают или взламывают, словно тушенку консервным ножом, чтобы распаковать ощущение густой изоляции от внешнего мира. Как пишет кинокритик и литературовед Елена Грачева: «Ни один режиссер не выдерживает чудовищной концентрации отчуждения, что заполняет все созданное сценаристом пространство».
Но там, где кинокритик и режиссер ногу сломят, пройдут небезразличные читатели, чавкая кирзой в болотах безграничной неприкаянности и языковой платоновщины, — простого читательского подвига ради.
«Она ему сказала:
— Ты очень хорошо танцевал.
Он следил глазами за учительницей, потому что боялся, что учительница скажет снова танцевать, и учительница снова сказала. Они снова стали танцевать и кружились, кружились. Она смотрела на него, и он смотрел на нее, и между ними пролетали искры любви, они не знали, это у них любовь или где-то со стороны случайно пролетело, но искры видели и он, и она.
Танец закончился, они отдали учительнице триста рублей.
Алиса вышла за дверь с Димычем и сказала:
— Димыч, спасибо. Придешь еще ко мне?
Димыч сказал:
— Ну поприкалываться над тобой приду. На баб посмотреть. Приду, приду.
Она дошла с Димычем до автобуса и сказала:
— Пока, Димыч. Я тебя люблю.
Димыч сплюнул, сказал:
— А ты мне на *** не нужна, — когда она одна в темноте уезжала в автобусе, видела, как он один в темноте залезает в свою машину».
Александр Долинин. «Гибель Запада» и другие мемы. Из историй расхожих идей и словесных формул. М.: Новое издательство, 2020
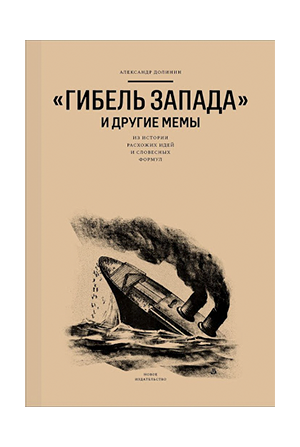 Александр Алексеевич Долинин (1947) — советский и российский, позже американский историк литературы, пушкинист и переводчик — выступает в несколько необычной роли исследователя исторических мемов. «Историчность» подразумевает в данном случае вековой, а то и более продолжительный срок жизни мемов, свободный от смены культурных парадигм и даже от выхода нового сезона «Южного парка».
Александр Алексеевич Долинин (1947) — советский и российский, позже американский историк литературы, пушкинист и переводчик — выступает в несколько необычной роли исследователя исторических мемов. «Историчность» подразумевает в данном случае вековой, а то и более продолжительный срок жизни мемов, свободный от смены культурных парадигм и даже от выхода нового сезона «Южного парка».
Примеры? «Англичанка гадит». «Поскребите русского и найдете татарина». «Запад погибает/загнивает/...». «Все мы вышли из „Шинели” Гоголя» и т. д. и т. п. К изучению этих и других меметических оборотов Долинин подходит как к частному исследованию механизмов культурной памяти, которая, как и в общечеловеческом случае, имеет множество промежуточных состояний, помимо «знаю — забыл». Исследователь признается, что его особенно волнуют два момента: как мем возник и почему выжил в изменчивых контекстах.
Если пунктиром разбирать долининский метод на примере «Гибели Запада», то сначала автор фиксирует, что русской культуре присущ обширный корпус эсхатологических пророчеств, особая часть которого возвещает не конец всемирной истории, а чужой культуры — Запада. В XIX–XX вв. гибель европейскому миру кто только не пророчил — от Лермонтова и Достоевского до Тютчева и Белого. Под проклятия подводились самые разные основания: биологическая метафора (здоровый-больной организмы); историко-культурная идея о том, что Запад достиг совершенства, а значит, завершения; предположение, что высокое развитие техники, политических институтов и др. является «признаком падения и погибели», «язвы просвещения» и пр.
Далее автор аккуратно разбирает резоны говорящих и дает взгляд «из-за границы», где болезненной современности тоже противопоставляют светлое Средневековье, — и тут неожиданно обнаруживается, что у русской идеи гибели Запада вообще преимущественно западные корни. Далее — еще целый ряд удивительных трансформаций, включая реактуализацию мема через неминуемую, исторически обусловленную гибель капиталистического Запада перед лицом марксистско-коммунистического чуда с Востока.
Заканчивает свой очерк Долинин указанием на то, что пресловутый мем о гибели Запада носит типичные черты несбывающегося пророчества, т. е. феномена, хорошо известного социологам, изучающим эсхатологические секты. Небывшееся пророчество сплачивает общину, заставляет ее увидеть свои «ошибки» (например, недостаточно усердный прозелетизм). Но, пожалуй, самое удивительное, «вампирическое» свойство подобного мема, возвещающего конец, — он никогда не подтверждается, но никогда и ничем не дискредитируется. Sola fide!
«В поговорке „Поскребите русского и найдете татарина” теперь видят намек на этническую нечистоту русской нации, тогда как в XIX веке всем было понятно, что татарин означает здесь дикаря, нецивилизованного азиата в противопоставлении цивилизованному европейцу».
Дэвид Бирн. Как работает музыка. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Перевод с английского Евгения Искольского
 На первой же странице бывший лидер Talking Heads и вполне успешный соло-артист заявляет: «Это не автобиографический рассказ о моей жизни как певца и музыканта». Можно счесть сие некоторым лукавством, поскольку примерно половина повествования сводится к мемуарам о том, как, где и с кем Бирн играл, в какие истории попадал и как решал свои маркетингово-творческие проблемы.
На первой же странице бывший лидер Talking Heads и вполне успешный соло-артист заявляет: «Это не автобиографический рассказ о моей жизни как певца и музыканта». Можно счесть сие некоторым лукавством, поскольку примерно половина повествования сводится к мемуарам о том, как, где и с кем Бирн играл, в какие истории попадал и как решал свои маркетингово-творческие проблемы.
Даже подобную книжку стоило бы прочесть (закрыв глаза на комически громкое заявление на обложке — «Как работает музыка»), но если вторая половина текста сводится к мастерские превращения Бирна то в антрополога, то психофизиолога слуха, то аналитика воздействия технического прогресса на, собственно, музыку (с папашей все в порядке, он котирует mp3) и во многие иные амплуа — это, что называется, «надо брать».
Надо, при условии, что вы не питаете идиосинкразии к простоватой, всезнайской и чуть шарлатанской интонации Бирна (он, например, считает, что импровизационную музыку как таковую изобрели в джазовой среде 1920-х, но есть и сюжеты позабавнее — вроде экспорта технологии звукозаписи через похищенные у Гитлера магнитофоны, воспроизводившие денно и нощно немецкие симфонические оркестры).
Ну и что импонирует лично мне, так это открытость неунывающего автора с широким (хорошо бы сузить) кругозором всему новому, непривычному и вера в то, что музыку если кто и спасет, так это дилетанты, дилетанты — и природный социомагнетизм музыки. Ну а так — надежды ждать больше неоткуда (не считая шести бизнес-моделей, которые Бирн придумал и описал в восьмой главе).
«В 1960-е годы композитор Терри Райли давал ночные концерты, на которых он создавал звуковую среду, импровизируя (в рамках строгих параметров) с зацикливанием ленты. Зрители часто приносили спальные мешки и дремали в течение части „концерта”. (Отголоски Бинга Мускио и Сати с их музыкой, которой можно было пренебречь.) Когда Райли требовалось сходить в туалет, зацикленные фрагменты звучали сами по себе. Рис Чатем и Гленн Бранка создали похожие звуковые ландшафты для многочисленных гитар — я получил невероятное впечатление, сравнимое со впечатлениями от гула дорожного путепровода или сталелитейного завода. В 2006 году я увидел группу Sunn O))), которая театрализовала этот опыт — они играли концерт в бывшей церкви. Их музыка состояла из чудовищно громкого гудения, которое распространялось по залу, в то время как исполнители стояли со своими гитарами перед стеной из сложенных гитарных усилителей, одетые наподобие друидов в плащи с капюшонами. У них не было барабанов и не было песен в привычном понимании слова. Ритуал вернулся, а может, никогда и не уходил. Звучание Sunn O))) невероятно, как и создаваемая ими величественная мрачная атмосфера».
Оливия Эрлангер и Луис Ортега Говела. Гараж. М.: Strelka Press, 2020. Перевод с английского Дмитрия Кралечкина
 Художница Оливия Эрлангер выросла в американской субурбии, проломив дверь своего гаража, когда ей было 13 лет. Архитектора Луиса Ортегу Говелу крестили в гараже его бабушки, и он знакомился с пригородной жизнью США, находясь по ту сторону границы в Мексике, впитывая образы через фильмы и передачи. Идея проследить генеалогию гаража от первых проектов Фрэнка Ллойда Райта до гаражного стартапа Apple и сопроводить ее многочисленными фотографиями — их совместный арт-проект.
Художница Оливия Эрлангер выросла в американской субурбии, проломив дверь своего гаража, когда ей было 13 лет. Архитектора Луиса Ортегу Говелу крестили в гараже его бабушки, и он знакомился с пригородной жизнью США, находясь по ту сторону границы в Мексике, впитывая образы через фильмы и передачи. Идея проследить генеалогию гаража от первых проектов Фрэнка Ллойда Райта до гаражного стартапа Apple и сопроводить ее многочисленными фотографиями — их совместный арт-проект.
Почему, помимо строчек в биографиях, гараж? Авторов заворожило, что за его дверями может, если не обязано, скрываться нечто жуткое и непристойное, девиантное и вообще, прости господи, — (последнее) пространство «доминации белой маскулинности». Гараж виделся топосом, где благопристойный американец из субурбии мог укрыться от требований идеальной семьи и предаться экспериментам самого разного толка.
Доведя свое исследование до конца, Эрлангер и Говела обнаружили, что писали вовсе не о гаражах, а способности создавать пространства «переменчивой инаковости». Но и в сердце самого гаража как феномена открылась дихотомия, если не сказать противоречие. С одной стороны, это помещение, где можно самоизолироваться, а с другой — пространство для самовыражения, плоды которого неизбежно стремятся попасть вовне, опубличиться.
Советско-российские гаражи — топос для нашей культуры не менее важный, чем для культуры американской, — еще ждет своих исследователей.
«Гараж рассказывает убедительную историю субъективности и технологии, что снова и снова переводится в разные функции, которым он служит и которые в нем размещались. Первобытный вопль, раздававшийся из гаража, заглушается медиа, фигурами и историями, присваивающими это пространство как им вздумывается. Гаражным выступает исходное основание для идентичностей, которые раннее существовали вне рынка, чье целеполагание должно постоянно ставиться под вопрос. Не идет ли речь о простом самовозвеличивании, нарциссическом присвоении? Или мы говорим об инструменте эмансипации и создании чего-то нового? В гараже хранятся и обретают новые цели не только предметы, но и нарративы, которые в этих стенах рождаются и умирают, позволяя людям связываться с установками, выстроенными этим пространством, и его приспособлением под сходные конечные результаты. Гаражная мифология — это мифология рекомбинации образов. Она действует как непрерывно расширяющая жесткий диск; наши базы данных растут до бесконечности, и здесь вопрос уже не в уникальности или оригинальности материала, но в наложении одних образов на другие. Гараж собрал значительную коллекцию образов и историй, которые начинают существовать в качестве коллажа и отсылок. Это не присвоение, не плагиат, не нарушение авторских прав — все дело в повторном использовании идентичности, замещающем историю».
Мэтт Браун. Все, что вы знаете об искусстве, — неправда. М.: Ad Marginem, 2020. Перевод с английского Юлии Евсеевой
 Лондонский колумнист Мэтт Браун, написавший до этого книги «Все, что вы знаете о науке, — неправда» и «Все, что вы знаете о Лондоне, — неправда» (чувствуете метод?), сочинил справочник, предлагающий «расслабиться и приготовиться расстаться со своими заблуждениями и предубеждениями по поводу искусства».
Лондонский колумнист Мэтт Браун, написавший до этого книги «Все, что вы знаете о науке, — неправда» и «Все, что вы знаете о Лондоне, — неправда» (чувствуете метод?), сочинил справочник, предлагающий «расслабиться и приготовиться расстаться со своими заблуждениями и предубеждениями по поводу искусства».
Заблуждения и предубеждения вынесены в название подглав, что сразу позволяет сориентироваться, с какой неправдой Браун предлагает нам прощаться. Например, «Настоящее произведение искусства должно быть уникальным». Или: «Импрессионисты были первыми художниками, рисовавшими на пленэре». «На острове Пасхи сотни таинственных каменных голов». «Краеугольный камень — самый важный элемент арки». «Большинство уличных художников — это подростки, незаконно рисующие на улице». И, наконец, «Мона Лиза — на самом деле тайный автопортрет да Винчи» — по меньшей мере, вы рискуете расстаться с 37 неправдами, а то и больше.
Главный позитивный эффект от этой умеренно остроумной и не слишком глубокой книги заключается не столько в срывании покровов (многие из них прозрачнее платья Голого короля), сколько в повышении градуса интереса и любви к искусству как таковому. На уровне «интереса» Брауну это точно удается. Для автора все «неправды» и «ошибки» — это повод не столько выкатить революционную теорию, сколько рассказать увлекательную историю.
А также повод лишний раз напомнить, что история, и история искусства том числе, — это не набор камешков, аккуратно разложенных по своим отдельным коробочкам, а скорее медленная горная осыпь, которая в результате постоянных смещений переживает пере-пере-переинтерпретацию.
Хорошее чтиво для недолгого авиаперелета.
«Один из самых знаменитых арт-объектов, который ежегодно видят миллионы посетителей, — подделка. Или что-то вроде того. „Фонтан” Марселя Дюшана (1887–1968) был создан в 1917 году. Он прост по форме, представляя собой не более чем перевернутый писсуар с нанесенной ручкой надписью „R. Mutt 1917” на боковой стороне. Однако заложенная в нем мысль гораздо сложнее. Представив свою работу в стиле реди-мейд, Дюшан бросил вызов самому понятию искусства. В то же время заставляя зрителей переосмыслить форму и функциональность предмета повседневного пользования (...), „Фонтан” неоднократно попадал в списки важнейших произведений XX века. При этом никто не видел оригинальный предмет на протяжении столетия.
Да, писсуар можно увидеть в галерее „Тейт-модерн”, еще один экземпляр стоит на третьем этаже Музея современного искусства в Сан-Франциско. И еще одна копия выставлена в центре Помпиду в Париже. „Фонтан” представлен 15 разными копиями, и все они были созданы спустя много лет после оригинала.
Никто не знает, что случилось с самым первым писсуаром. Возможно, его выбросили на помойку сразу после превращения в арт-объект в 1917 году. Его никогда нигде не экспонировали, и лишь избранные имели счастье увидеть одно из самых влиятельных произведений искусства, когда-либо созданных человеком. (...) В следующий раз, когда вы услышите, как кто-то пренебрежительно высказывается о писсуаре Дюшана как „о ерунде”, которую „может сделать кто-угодно”, вы можете смутить его, указав, что это даже не оригинал».