Генерал Мозговая Мышь
О книге Нормана Диксона «О психологии военной некомпетентности»
Кадр из фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964)
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Норман Диксон. О психологии военной некомпетентности. Ереван: Независимый центр оборонных исследований, 2025. Перевод с английского Тиграна Ованнисяна
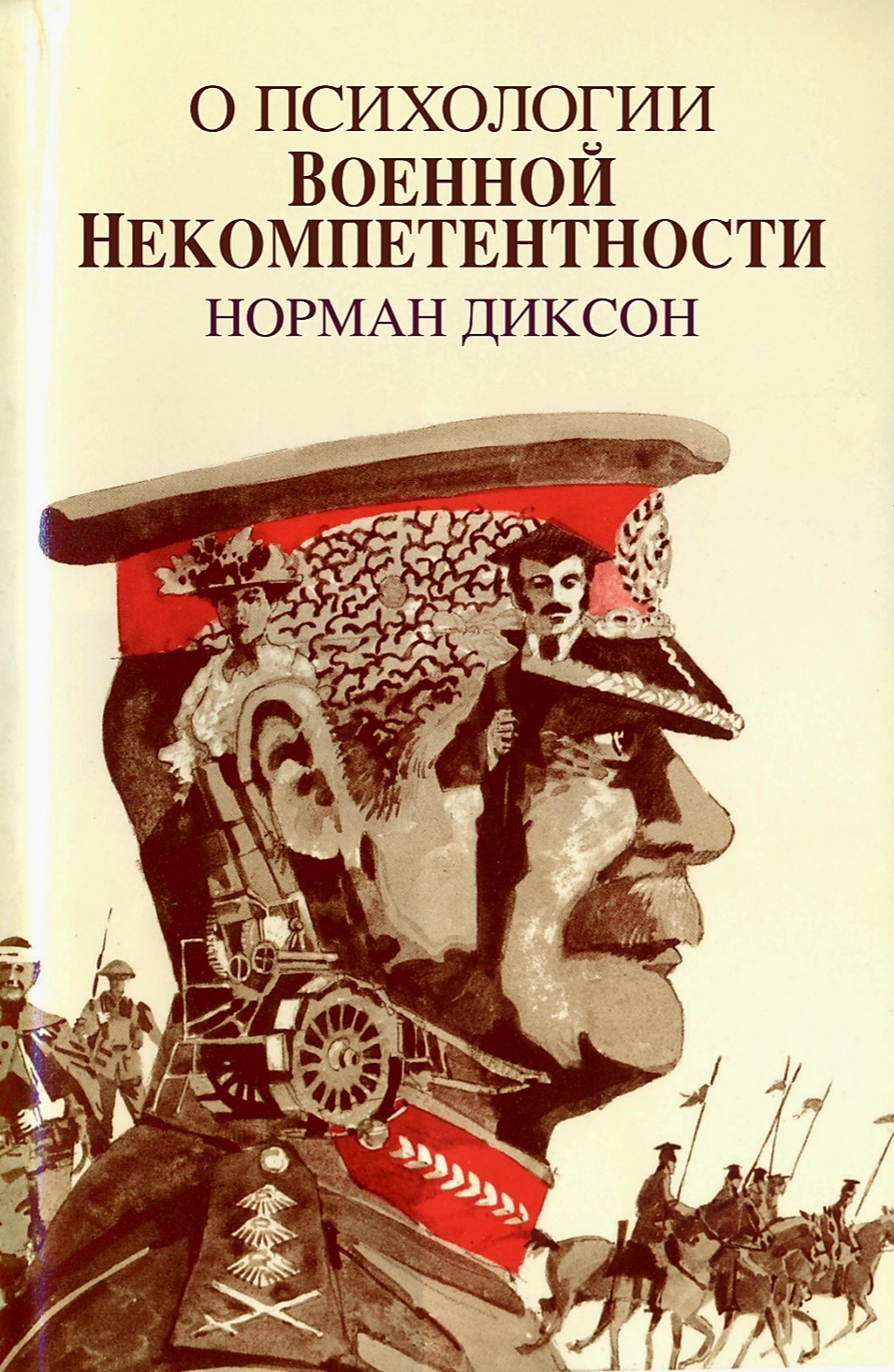
Один мой преподаватель определял организационную психологию как раздел зоопсихологии. Почему зоопсихологии? Потому что это наука о мышах в голове начальника. Ведения войн это касается куда сильнее, чем политики и бизнеса. Когда речь идет о боевых действиях, не существует субъекта «армия», «полк» или «рота», и тем более не имеют смысла обобщения вроде «американцы» или «хуситы». Поступки совершают люди и командуют ими тоже люди с собственными мышами в головах. Эти люди принимают решения… или мыши? Теперь, введя необычную для рецензии сниженную терминологию, можно сказать, чему посвящена книга Нормана Диксона «О психологии военной некомпетентности». Она — о мышах в головах генералов: как эти мыши заводятся под фуражками с высокими тульями; как генеральскую карьеру делают те, кому самое место в мышиных зоопарках; как внутренние мыши влияют на решения; как от этих решений бессмысленно гибнут люди — военные и гражданские — и как потом генералы избегают ответственности за дичь, которую они творят. Не такой уж странный сценарий, потому что некомпетентные командиры не выглядят как маньяки, избегшие смирительной рубашки лишь по недоразумению. Авторы грандиозных военных провалов чаще всего бывают славными ребятами: дружелюбными, покладистыми, веселыми и даже добрыми — одним словом, настоящими джентльменами.
Книга написана на материале истории армии Великобритании, чья атмосфера хорошо знакома Норману Диксону. Он десять лет прослужил в Корпусе королевских инженеров, был ранен и получил Орден Британской империи, затем вышел в отставку. После службы Диксон поступил в университет и получил степень по психологии. Занимался исследованием подпорогового восприятия и предсознания — темами, не модными в современной психологии, но не потерявшими актуальности. Подпороговое восприятие касается стимулов, которые не достигают порога сознательного восприятия и поэтому не осознаются, не обдумываются, но замечаются на бессознательном и предсознательном уровнях . Они проходят мимо сознания, незаметно проскакивают фильтр критики. Поэтому они зачастую влияют на умы и дела сильнее стимулов, которые попадают в фокус пристального внимания и подвергаются сознательной критике. Тогда это касалось рекламы, в том числе пресловутого 25-го кадра, но не только. Например, в пропаганде мнение, прямо навязываемое зрителю видеоролика, рискует быть отвергнутым. Если же оно введено не прямо, в то время как фокус внимания зрителя направляется на другое, оно проходит мимо критического мышления. А если оно повторяется много раз… В специальной литературе работы Нормана Диксона известны, часто цитировались и оказали серьезное влияние.
Грубо говоря, Норман Диксон был ученым психоаналитического склада, что несомненно накладывает отпечаток на его книги. Не знаю, курил ли он сигары, но в историю детства своих героев он входит подробно. И чем он заразился от старой школы психоаналитиков, так это потрясающей наблюдательностью и живостью описательного языка. Используя метод Диксона против него самого, я бы предположил, что он вволю насмотрелся на своих начальников и всю свою армейскую жизнь хотел понять истоки их странных решений. Каждый, кто прожил десяток-другой лет в армии, на государственной службе или хотя бы в офисе, отлично его поймет.
Идея некомпетентности высокопоставленных военных носилась и продолжает носиться в воздухе, хотя на эту тему не принято говорить в полный голос. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется» — гласит циничная пословица. И это не только наша национальная проблема. Об оценке военных гражданскими косвенно говорит популярность англо-американского фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» 1964 года. Генерал Джек Риппер, командующий американской военно-воздушной базой, сходит с ума и отправляет на СССР стратегические бомбардировщики, несущие ядерное оружие. Все бездумно выполняют распоряжение очевидно спятившего генерала. Исключение составляет осторожный и кажущийся чужим в армии полковник ВВС Великобритании Лайонел Мандрейк: он сохраняет разумное начало и пытается предотвратить Третью мировую войну. Кинокартина была и остается востребованной у публики. В 2000 году читатели британского журнала Total Film поставили ее на 24-е место в списке лучших лент всех времен и народов. Сегодня, через через четверть века, фильм сохраняет высокие рейтинги. Из этого можно сделать вывод, что для общества некомпетентность высших военных чинов — секрет Полишинеля. Все о ней шепотом говорят, но мало кто пытался научно описать ее истоки и причины.
Итак, что такое военная некомпетентность? Норман Диксон выдвигает 14 ее проявлений, и первыми идут ключевые: неоправданная растрата сил и ресурсов, в первую очередь людей; упертый консерватизм; склонность отвергать неудобную информацию; недооценка врага и переоценка собственных возможностей; избегание ответственности и талант в поиске козлов отпущения для собственных провалов. Вполне очерченный набор симптомов и синдромов. Но какова нозология? В чем кроется происхождение болезни?
В первой части книги — десяток примеров больших неудач британской армии: от Крымской и Англо-бурской войн до сражений обеих Мировых войн. Диксон не пишет новую военную историю, а подсвечивает личную роль командующих в событиях, проводя линию к их характеру и особенностям личности. Пусть русского читателя не смущает национальная специфичность материала. Во-первых, даже далекий от армии, но достаточно эрудированный человек хотя бы понаслышке знаком с описываемыми событиями. Во-вторых, личности английских военачальников достаточно типичны, чтобы подобрать для каждого парочку аналогий из отечественной истории и современности. Да что там, у многих были руководители с теми же чертами, так что механизмы начальственной некомпетентности вполне можно считать интернациональными и вневременными.
Во второй половине книги профессор Диксон ищет общее в суждениях и поведении генералов, приведших свои армии к провалу. Черты характера и склонности он обобщает по двум направлениям: нормы и правила, принятые в военном сообществе (вторая часть книги) и особенности личной психопатологии, которые делают людей неспособными принимать правильные решения и брать ответственность (третья часть).
«Зачем так сложно?» — возразит иной читатель, дойдя до второй половины книги. И вспомнит «бритву Хэнлона» из законов Мерфи — полушуточных, но часто справедливых афоризмов. Максима бритвы Хэнлона звучит так: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».
Вопросы к образованию английских офицеров возникали и раньше, и было отчего. В 1933 году полковник Томас Эдвард Лоуренс (знаменитый Лоуренс Аравийский) в письме военному теоретику и историку Бэзилу Литл Гарду сетует: «Если бы ваша книга могла убедить некоторых из наших новых военных читать, отмечать и изучать вещи за пределами руководств и тактических диаграмм, она бы сделала много. Я чувствую фундаментальное, парализующее нелюбопытство по поводу наших офицеров. Слишком много тела и слишком мало головы. Идеальный генерал знал бы все на небесах и на земле». И армейский антиинтеллектуализм поистине интернационален. В 1914 году американский генерал Леонард Вуд издал приказ: «…все военное образование должно быть строго практическим; исключать книги, насколько это возможно, кроме справочных целей». Культ физического развития царил и до сих пор царит в английских университетах. Спорт — прерогатива джентльменов, вопрос статуса и престижа. Худшее, что может постичь студента, — слава книжного человека, «ботаника». В армии же, офицерский состав которой столетиями формировался из людей высокого происхождения, спортивные достижения стали главным критерием карьерного отбора. Это не значит, что в армию отбирают заведомо глупых людей без способностей; фактически интеллектуальная деятельность и образование подавляются внутренней армейской культурой. Конечно, по мере того как война становится все более изменчивой и технически сложной, невежество и умственная косность приводят к провалам.
Однако свалить все только на необразованность военных — значит погрешить против истины. Диксон не отрицает случаев глупости генералов, но указывает на важные детали. Первая в том, что глупость встречается не так часто, и дело не всегда в ней или не только в ней. Вторая — каким образом необразованные люди с плохими интеллектуальными способностями так высоко поднимаются по карьерной лестнице? Если так происходит, значит, дело в нормах и правилах армейской среды и в личных психологических особенностях отдельных людей, вследствие которых они не в состоянии эффективно командовать войсками. Изучению этих вопросов посвящена вся вторая половина книги.
Профессор Диксон не пускается в сетования на жизнь, а строит логику на научной психологии. Что касается теорий, к которым он прибегает, здесь читатель не найдет модных нейробиологических отсылок и цветных карт активности головного мозга в томографе. Книга вышла в 1976 году и основана на психоанализе, когнитивном диссонансе Фестингера, модели стресса Ганса Селье и экспериментальной психологии того времени. «Объяснительная часть книги Диксона построена на несколько устаревших теориях», — рефреном повторяют современные рецензенты. Я бы поспорил с этим утверждением. Действительно, алхимические опыты последних десятилетий с превращением психологии в физиологию в тесной камере томографа мало приблизили понимание механизмов психики. Во-первых, мозг слишком сложен, а томограф слишком груб для таких исследований. Во-вторых, да простят мне компьютерную аналогию, в психике человека слишком большое значение имеют «программы» в противовес «железу», в то время как современные инструменты нейробиологических исследований видят как раз функционирование «железа». В будущем, когда методики исследований станут совершеннее, нас ожидают большие открытия. Но, пока нейробиология XXI века либо соглашается, либо вяло спорит с психологией века XX и предлагает мало собственных гипотез, психоанализ остается лучшей наукой о психических «программах», а значит, теории, к которым прибегает Норман Диксон, вполне хороши для своих целей.
Например, автор широко использует концепцию Фрейда о борьбе усвоенных в семье моральных запретов с запрещенными природными импульсами. Человек, склонный к насилию и агрессии, ищет сообщество таких же людей, а главное — организацию, в которой он сможет либо легально проявлять эту агрессию, либо иметь под рукой способы защиты от внутреннего конфликта собственных наклонностей с совестью. Подобным образом алкоголик тяготеет либо к компании таких же выпивох, если он хочет продолжать пить, либо к группе Анонимных Алкоголиков, если пить уже не может. Таким образом, в армии формируется своеобразная психологическая среда со сходными потребностями и сходными же комплексами.
Теперь возьмем пример мальчика из семьи, где агрессия в отношении родителей запрещена, но поощряется в отношении сверстников: спорт, соперничество в учебе или санкционированная травля по социальным признакам. Взрослея, такой мальчик найдет подходящую атмосферу в армии, где неподчинение и критика к вышестоящим сурово караются, ограниченная агрессия к нижестоящим дозволяется, а к врагу — вознаграждается. Особенно если он видит перед глазами пример отца и справляется с тревогой за будущее ясностью целей и принципов, которые с уверенностью предлагают отцы/командиры. Так формируется отсутствие умственной гибкости и паралич любых попыток обсуждать планы с вышестоящими. Так командиры исполняют заведомо провальные планы, даже не пытаясь вынести наверх контраргументы и предложения. Кто скажет, что подобные выкладки не актуальны в наши дни?
Диксон рассматривает множество важных социальных норм английской (и не только) армии, которые либо безнадежно устарели, либо применяются шире, чем следовало бы. Антиинтеллектуализм и культ физического развития в ущерб образованию и гибкости ума — не единственные из них. Профессор психологии с холодностью ученого анатомирует армейские институты, рассматривая как их пользу, так и вредные побочные эффекты от бездумного применения. И между прочим, будет несправедливо обвинять его в негативизме: холодность не означает цинизма. Автор вовсе не деконструирует честь, мужество и принципиальность, а лишь показывает места, где они переходят в снобизм и пренебрежение нижестоящими, переоценку собственных возможностей и недооценку противника и ослиную упертость.
Чтобы не превращать рецензию в пересказ, выберем из перечня причин некомпетентности, по мнению Диксона, еще одну — борьбу с женоподобием. Желание командиров выглядеть мужественными перед сослуживцами (а на самом деле страх выглядеть женственными) диктует им определенное поведение, навязанное стандартами маскулинности. Это бы ничего, если бы не словечко «диктует». Решения людей, руководимых страхом, навязаны этим самым страхом, а значит, стереотипны, предсказуемы, в конце концов — негибки и несвободны. Генералы, которые боятся потерять образ мужественности, склонны к излишнему риску, пренебрегают защитой, попустительски относятся к бессмысленным потерям. Их поведение становится показной бравадой. Парадокс, известный любому психотерапевту, состоит в том, что подчеркнуто маскулинно ведут себя мужчины, сомневающиеся в своей сексуальности. Это и есть то, что называется компенсирующим поведением. И факторов, из которых в итоге складывается военная некомпетентность, Диксон рассматривает множество — как институциональных для военного сообщества, так и личностных, индивидуальных.
Стоит сказать о языке, которым написана книга, — это важно. Текст под 600 страниц не шутка, но пишет Норман Диксон смешно и во многом едко. В литературном плане он последователь длинной традиции английского юмора — хотя и мрачного, учитывая тему. Переводчику вполне удалось сохранить это несомненное достоинство.
Беда психологической литературы в том, что за некоторыми исключениями она посвящена нарушениям и отклонениям. Во многом это оправдано: как врач начинается с курса патологии, так психолог — с расстройств и психозов. Но с такой тенденцией любой рассказ психолога приобретает специфичный оттенок, портящий неспециалисту настроение. Есть такой оттенок и у книги «О психологии военной некомпетентности». Возможно, понимая это, ближе к концу книги Диксон поместил главу с описанием лучших военных командиров. Среди них, между прочим, и наш соотечественник, маршал Жуков, которым автор, кажется, восхищался. Во-первых Жуков не боялся спорить со Сталиным, отстаивая рациональные аргументы. Он был достаточно силен психологически, чтобы ему не мешали ни карьерные соображения, ни страх показаться неудобным. С точки зрения большинства провальных персонажей, попавших под лупу Диксона, противоречить «отцовской фигуре» — немыслимое нарушение всех правил. Во-вторых, автократ и сторонник дисциплины, Жуков был в то же время популярен в войсках. Это значит, что его властность была продиктована не патологическим самолюбием, а искренней последовательностью и рациональностью.
«Его характер был полной противоположностью авторитарной личности. Он был нетрадиционным, неортодоксальным, скорее гибким, чем жестким, сердечным, порывистым и нереакционным (например, ярым сторонником танков), заботился о благополучии своих войск и не шел на ненужный риск тяжелых потерь. Он был… непуританским, творческим и интеллектуальным. Возможно, самое важное, что он… излучал уверенность в себе и… был готов пробиться сквозь священные сети протокола и иерархической администрации», — так завершается ода Диксона советскому маршалу. Понятно, что с этим мнением можно поспорить, и это прекрасно, потому что любая дискуссия, в том числе читателя с автором, заставляет думать, искать параллели, задавать вопросы и искать ответы. Не в применении к истории, а к современному положению дел.